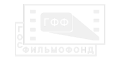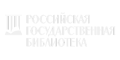В октябре-ноябре 1946 года множество людей, именитых и рядовых, прославившихся на весь мир или оставшихся неизвестными, собирало чемоданы, паковало в коробки и кофры бумаги, аппаратуру, одежду и маленькие памятные сувениры, обменивалось адресами для переписки. Нюрнберг, на полтора года ставший космополитической столицей мира, стремительно пустел – и только в коридорах Дворца правосудия еще звучало эхо недавнего вавилонского столпотворения. Кто они были и как они жили – те люди в те легендарные времена?
Мы решили проиллюстрировать этот материал фотографиями со съемочной площадки фильма "Нюрнберг", причем, в первую очередь фотографиями актеров массовки. Которые играют таких же, по сути, актеров массовки на главной сцене ХХ века, чьи имена история почти не сохранила. Бесчисленных стенографисток, машинисток, переводчиков, фотографов, охранников, распорядителей, солдат, военных курьеров, помощников всех мастей, без тихого кропотливого труда которых невозможна была бы бесперебойная работа огромного слаженного судебного механизма.
К счастью, некоторые из этих людей все же оставили свои скромные и по-настоящему драгоценные свидетельства. Работая в проекте, мы то и дело встречали такие маленькие жемчужины – и решили, что обязательно объединим их в одном из итоговых лонгридов.
Потому что, помимо очевидного глобального наследия, оставленного нам Нюрнбергом, помимо судьбоносных событий, которые разворачивались в те дни, там была еще и просто жизнь. Месяцы жизни множества отдельных людей. Кто-то из них уже тогда отчетливо сознавал, что ничего более важного в судьбе не было и не будет. А кто-то понял это спустя многие годы.

Как они входили в историю
Однажды все эти бесчисленные будущие сотрудники прилетали и приезжали "на перекладных", поездом или машинами в Нюрнберг. Большинство – впервые. Многие – с опасными приключениями: скажем, самолет, которым летели советские журналисты и писатели, из-за плохих погодных условий совершил вынужденную посадку в Лейпциге, а потом и вовсе на последних каплях бензина вернулся в Берлин. Чего бы гости ни ожидали, реальность все равно оказывалась иной. Как минимум тяжелейшее впечатление производил сам облик пострадавшего от авианалетов города: руины, груды битых кирпичей и покореженных металлических конструкций, горы камней и щебня, деревянные столбы с притороченными мешками для сбора воды – с питьевой водой в Нюрнберге дела обстояли очень плохо: река Пегниц и местные водохранилища еще не были освобождены от трупов.

Город полнился американскими солдатами. Свобода их поведения порядком шокировала советских военных, привычных к совсем другим критериям дисциплины. Так, 20-летний личный телохранитель главного советского обвинителя Романа Руденко, фронтовик, освобождавший Майданек, Иосиф Гофман, как и его коллеги, перед направлением в Нюрнберг прошел интенсивную строевую, огневую и политическую подготовку, получил новую форму и прослушал инструктаж о бдительности. Впоследствии он с изумлением вспоминал, что их машину на пути между оккупационными зонами никто ни разу не остановил и не проверил, на проносившихся мимо стоянках закусывали американские солдаты, даже не думавшие охранять свои колонны, а уже в Нюрнберге никому и в голову не пришло хоть раз проверить его пропуск, да и обширный танковый парк стерег единственный часовой. Зачастую американские солдаты, охранявшие объекты, в основном сидели у костерка, играли на губных гармошках и пели песни. "Когда мы ехали в Нюрнберг, ожидали, что на каждом шагу увидим танки, полицию, будет объявлен комендантский час. Ведь судят правительство, которое немцы обожествляли. Недалеко от Нюрнберга, в нескольких десятках километров, был лагерь военнопленных эсесовцев. Никто не перебрасывал в Нюрнберг дополнительно специальные подразделения, ни у кого не проверяли документов. Нюрнберг жил обычной серой, унылой жизнью. Не было демонстраций, митингов в защиту подсудимых".
Как они поселялись в истории

Служебные квартиры, импровизированные отели в домах за городом, флигели и комнаты во дворце Фабера, номера в буквально расколотом пополам "Гранд-отеле" – огромное количество людей, работавших на процессе, необходимо было куда-то селить, а это оказалось очень непростой задачей. В принципе, подавляющему большинству нужно было просто место для сна – чтобы рухнуть после тяжелого дня, вытянуть ноги и отдохнуть хотя бы несколько часов. Но условия, тем не менее, различались – и это, как ни странно, мало зависело от статуса. И, скажем, на молодых советских переводчиц, знавших в жизни только очень стесненные условия, бытовой комфорт произвел большое впечатление.
Татьяна Ступникова вспоминала: "Наша Люся, руководитель советской группы письменных переводчиков, замечательный человек и прекрасный специалист, не в силах оторваться от ванны. Всю жизнь она прожила в московской густонаселенной общей квартире с одним умывальником и с одним туалетом на сорок человек. Поэтому в Нюрнберге дисциплинированная и тактичная во всём остальном Люся в шесть часов утра запирается в ванной комнате, ходит там босыми ногами по выложенному красивыми плитками теплому чудо-полу, опускается в нежно-голубую ванну и забывает всё на свете в белоснежной пене "бадусана". Идет время, и мы, остальные обитатели дома, напрасно пытаемся достучаться в дверь ванной, добраться хотя бы до умывальников и посмотреться в большие зеркала, как это необходимо женщинам, отправляющимся на работу. Мы еле-еле успеваем проглотить американский завтрак и на стареньком автобусе советского производства отправляемся во Дворец юстиции. Каждый спешит здесь на свое рабочее место".
А временная обитель делопроизводителя Эры Львовой подарила ей забавную встречу: "Нас поселили на окраине города в уцелевших после бомбежек союзников коттеджах. Мы с мужем и секретарем советской делегации Аркадием Полтораком жили в семье банкира. Интересная деталь: когда в Нюрнберг привезли на допрос фельдмаршала Паулюса, то его также поселили под охраной в нашем коттедже. Никто же не предупредил о таком соседстве. Как-то после работы я забегаю в ванную комнату, а на унитазе сидит незнакомый мужчина. Меня потом муж просветил относительно того, с кем произошла у меня историческая встреча в ванной".
С этим курьезным случаем может конкурировать разве что история, приключившаяся с Таней Ступниковой. Она бежала по коридору Дворца правосудия, не глядя по сторонам, поскользнулась, споткнулась и упала бы, не подхвати ее какой-то мужчина со словами: "Осторожней, дитя мое!" Подняв глаза, Таня лишь спустя секунду осознала, что ее крепко держит с улыбкой Герман Геринг, под охраной проходивший мимо. Видевшие это западные репортеры немедленно придумали заголовок: "Последняя женщина в объятиях Геринга".

Немцы неизбежно становились принимающей стороной – во всех отношениях: выступали в роли хозяев пансионов в своих домах, нанимались в гостиницы в качестве портье, официантов и обслуги, веселили публику на сцене ресторана. И все без исключения гости Нюрнберга временами ловили себя на мысли: что эти люди делали во время войны? И не зря: в течение процесса стало известно несколько случаев, когда работу получали бывшие нацисты.

Для свидетельницы Северины Шмаглевской, приехавшей давать показания об Освенциме, пребывание в "Гранд-отеле" стало мукой: она буквально не могла поднять глаза на молодого немца-портье или вежливых девушек-горничных. "Легкий книксен чужим гостям из Польши, и они внимательно и радостно ждут распоряжений. Несмотря на воскресный день, они выгладят и принесут вынутые из чемоданов вещи, чтобы прибывшие свидетели выглядели как можно более элегантно и хорошо себя чувствовали. Это существенно. Нет больше военного положения, на улицах Нюрнберга нет гитлеровской армии, но эти девушки остаются ревностными солдатами своей нации. Ни одна из них не собирается в нас стрелять, не намерена бить и кричать, напротив, они с благоговением складывают вещи, которые должны унести с собой, и перед уходом, радостно улыбаясь, вновь делают книксен.
- Вы и умыться не успеете, а у них уже все будет готово. Поразительно, как они умеют работать. Тот, кто не видел немцев в оккупированных странах и составлял себе мнение о них только по "Гранд-отелю", конечно, пришел бы в полный восторг. Ангелы мира. Скромные, честные, старательные. Никто не спрашивал, нравится ли им нацизм. И я по собственному опыту вам советую: пока вы на территории гостиницы, отключитесь. Не думайте, не вспоминайте. Иначе мы все тут сойдем с ума. Все. Все!"

И каждый вечер перед сном Шмаглевская включала все лампы во всех помещениях номера, заглядывала под кровать и в шкафы и постоянно проверяла, заперла ли дверь. И шарахалась от пожилых добродушных официантов-немцев, а когда за ее спиной тихий старый немец, служитель Дворца правосудия, со щелчком закрыл двери зала, секунду ждала выстрела.
Художник Николай Жуков, живший в числе других корреспондентов в имении Фабера, вспоминал: "Когда я впервые приехал и вошел в этот дворец, перед моими глазами возникли ступени мраморной лестницы, упиравшейся в торжественное зеркало. По этой лестнице спешили корреспонденты, представители разных стран и народов. Когда я почти поднялся по ступенькам до зеркала и посмотрел в него, то увидел то, что было за моей спиной и чего я не заметил вначале. У входа в ливрее швейцара стоял бледнолицый, красивый немецкий юноша. Его потупленный взор был как бы направлен в никуда, виден был напряженный лоб, сжатые губы. Левой рукой он открывал и закрывал двери, правой у него не было, — она, возможно, осталась на Курской дуге, а пустой рукав ливреи был перехвачен поясом. В судьбе этого молодого немца, стоящего у парадного входа дворца Фабера и открывающего двери перед потоком корреспондентов, я почувствовал трагедию всей германской нации, виновником которой был только фашизм. Это был для меня как бы эпиграф к Нюрнбергскому процессу, ко всему тому, что я там увидел и услышал. И еще, когда я вошел в здание суда, там происходил ремонт, чистили, скоблили, красили. В этом обновлении был симптом доброго".

Для корреспондентов и гостиницы были редакциями. Ночью, когда многочисленные соседи спали, они просто выносили пишущие машинки в коридор. А карикатурист Борис Ефимов и нескольких дней не выдержал в одном номере с режиссером Романом Карменом: "Вскоре я обнаружил, что живу не в обыкновенном гостиничном номере, а в некоем оперативном пункте, где то и дело появляются и вновь исчезают взмыленные кинооператоры и фоторепортеры, управляемые твердой рукой Римы Кармена. Сигаретный и трубочный дым днем и ночью висел в воздухе. (…) По вечерам, когда мы были свободны от процесса, собирались у кого-нибудь в номере, обсуждали эпизоды минувшего дня, трепались, шутили… Кто-то высказал предположение, что американцы установили в наших номерах подслушивающие устройства — "жучки". Предполагалось, что они находятся в настольных лампах. И помню, Всеволод Вишневский, подвыпив и наклонившись вплотную к лампе, начинал кричать: "Плевали мы на вашу атомную бомбу!"
Впрочем, самому Кармену повезло не сразу: в первые дни процесса советские корреспонденты жили по 8-10 человек в комнате с одной ванной на несколько общежитий. Это был максимум, который могли обеспечить американцы как принимающая сторона: в те дни в Нюрнберг разом съехалось более 600 журналистов и около 100 кинооператоров и фотографов.

"Гранд-отель" стал приютом для многих – от американских, английских и французских машинисток до советских журналистов и приезжающих на слушания свидетелей. Там плохо топили, в номерах – ледяной холод, добираться до них было порой опасным приключением: постояльцы, в том числе женщины в туфельках на каблуках, то забирались на второй этаж по приставной лестнице через дыру в потолке ванной на первом, то опасливо крались по шатающимся деревянным доскам, перекинутым через провалы в перекрытиях, и везде под ногами хрустели камешки и песок, только внизу часть коридора при входе устилала красная дорожка.
Как они жили в истории
Вскакивали рано утром и бежали на работу. Кого-то забирали автобусы. За кем-то закрепляли машины – и тогда отдельной проблемой было найти водителя. Причем, чаще всего здесь работало сарафанное радио: так, Борису Полевому, недовольному предоставленным американским автохозяйством шофером-шпионом, в итоге помог с поисками шофер судьи Никитченко. Привел немца. Тот сразу честно о себе рассказал: бывший летчик-истребитель, воевал на Восточном фронте, имеет железный крест, на Северном фронте в воздушном бою был подожжен советскими истребителями, инвалид. Но не нацист. Полевой его взял. И Курт служил верой и правдой, они часто говорили о войне и процессе, и "Повесть о настоящем человеке" писатель тогда создал за 19 дней в том числе в мысленном диалоге со своим шофером, бывшим врагом.
Делегации порой помогали друг другу машинами – чехословаки возили советских репортеров, а иной раз с ветерком подвозила бедовая американская журналистка Пэгги на джипе. А в редчайший выходной, когда советские девушки-машинистки наконец получили возможность посмотреть окрестности, для этого святого дела мобилизовали все корреспондентские авто.

Питание курировала американская сторона. В том числе – из соображений безопасности: американцы на территории поверженного врага были готовы есть только доставленное и приготовленное американцами под охраной американцев. Для советской делегации, не понаслышке за время войны узнавшей голод, это стало отдельным впечатлением. Борис Ефимов вспоминал: "В ресторане и в баре всегда имеется ананасовый, апельсиновый или грейпфрутовый сок, а также знаменитая кока-кола, описанная еще Ильфом и Петровым. Это — хорошо. Но зато американская кухня здесь — это что-то чудовищное по невкусности и неаппетитности. Это — пресные каши, лежалые яйца, консервированное мясо с вареньем, котлеты с кремом, соленые огурцы с сахаром, все сладкое, все приторное. Особенно донимает то, что к столу вместо хлеба подается сладкий кекс с изюмом, с которым надо кушать и суп и мясо. Когда Шейнину его жена прислала из Москвы с оказией несколько маринованных селедок и бутылку настоянной на чесноке водки, то это распределяли на всю делегацию, как ценнейшие витамины". Ему вторил Борис Полевой: "Всем нам за время пребывания здесь до чертиков надоела американская еда, которой нас столь обильно потчуют в парадном обеденном зале замка Фаберов. Удивительно красивая и аппетитная с виду и… безвкусная. Нет-нет, хозяева стараются как могут. Даже белый хлеб доставляют сюда в красивых станиолевых обертках. Он ноздреватый, пухлый, с румяной корочкой. Но положишь его в рот — никакого впечатления, будто жуешь бумажную салфетку. Знаменитые американские стейки — поджаристые, толщиной в руку, с горошком таким зеленым, будто он сейчас снят с грядки. А положишь в рот и — никакого вкуса. Даже слюна не выделяется. Консервы, все в консервах. Не только мясо, но и яйца доставляются сюда в замороженном виде, бог весть какого года хранения. Много варенья, повидла, консервированных фруктов и овощей. Но все обманчиво. Хлопнешь рюмку водки, вонзишь вилку в зеленый пупырчатый огурчик, а он, оказывается, сладкий, да такой сладкий, что, обманувшись в лучших чувствах, и глотать его не хочется. Поначалу, плененные обилием и красочностью еды, к тому же ее абсолютной дешевизной в пересчете на оккупационные марки, мы на нее поднаперли, просили добавок первого, съедали по два-три вторых. Потом остыли и теперь смотрим на толстый поджаристо-румяный стейк, как солдат на вошь. Смотрим и тоскуем по черному хлебу, по разваристой картошке. Все стали жаловаться на недостаток витаминов. Их сколько угодно в военном ларьке, и все в роскошной упаковке с мудреными учеными названиями. Но разве самая лучшая пилюля или таблетка заменит живую луковицу или головку чесноку?"
Доставленный в итоге с оказией чеснок пленил всех союзников. Советский стол не чинясь угощал соседей – и вскоре благоухал весь зал заседаний. В конце концов в американской газете "Звезды и полосы" даже опубликовали карикатуру: "Новое секретное изобретение русских в борьбе с нацизмом" с подписью: "Корреспондент "Правды" на Нюрнбергском процессе Борис Полевой дышит чесноком в лица подсудимых. В компетентных медицинских кругах сообщают, что вследствие этого некоторые из них могут скончаться, не дождавшись приговора".

Эра Львова уточняла: "Давали соки, фрукты и шоколад, а вот под конец процесса якобы из-за дороговизны американцы нам отказали. Дня три мы все голодали, так как купить продукты было негде. Вот вам и союзники. Однако нам вскоре начали поставлять пайки из советской зоны оккупации".
А Иосиф Гофман добавил: "Первое время, пока не привык, не хватало хлеба. Его резали такими тонкими ломтиками, что через них можно было читать. Но добавки никогда не просил. Ежедневно всех снабжали зубной пастой, мылом, ручками, сигаретами. Французские и английские участники привезли с собой родственников. Да американцев не проведешь. После окончания процесса они всем выставили счета за питание".
Как они работали в истории
Но еда была просто передышкой в течение дня, полного тяжелой работы, шокирующих впечатлений и изматывающей суеты. С раннего утра до поздней ночи Дворец правосудия сотрясал бег тысяч ног, стук сотен пишущих машинок и звон десятков телефонов.

Советской делегации отвели помещение на втором этаже. Зал судебных заседаний находился на третьем. Там соорудили балкон для посетителей, но этого было явно недостаточно, и места распределяло специальное бюро. Чередуясь, на процессе побывали 60 тысяч человек.
Репортер "Комсомольской правды" Сергей Крушинский наблюдал, как сменяются часовые перед Дворцом: "Косые лучи солнца падали на лица русских парней, что неподвижно стояли с винтовками на караул у дверей суда. В этот день они сменили шотландских гвардейцев. Ордена Славы сияли на их гимнастерках. Они стояли, глядя прямо перед собой. Сколько ни смотри, не дрогнет мускулатура лица, не шевельнется палец на ложе русской винтовки. Кто-то снимал их, кто-то пристально разглядывал. Они пришли охранять этот суд как солдаты победоносного войска. И вдруг я подумал: "Как же трудна была их дорога в Нюрнберг!" В самом деле, какие только лишения не пришлось испытать, какие страдания не довелось вынести… А сколько других таких же парней было убито пулями, осколками снарядов и бомб?.. Я поспешил вернуться в зал суда. Там продолжалось чтение документов".

Северина Шмаглевская вспоминала о первом визите во Дворец правосудия: "В старинном здании гулко звучат торопливые шаги. Двери почти во всех комнатах открыты. Всюду полно документов, на окнах, на столах, на полу лежат кипы бумаг, папки, скоросшиватели, толстые конверты, рассыпанные фотокопии, снимки. Я озираюсь кругом. Аккуратно сложенные горы бумаг со штампом Комиссии по расследованию гитлеровских преступлений, они занимают тут все свободное пространство. А если чуть наклонить голову, можно прочесть документ, лежащий наверху. Можно выбрать подходящий момент, когда в комнате никого нет — а такое случается у польских юристов, — и протянуть руку из коридора, тогда из аккуратно сложенной горы макулатуры о минувшей войне исчезнет несколько листков".

Советский кинооператор Роман Кармен описывал: "Здание огромное. Там большое количество комнат. Я только на третьем месяце пребывания в Нюрнберге начал немножко ориентироваться в этих бесконечных комнатах. Аппарат Нюрнбергского суда огромный. Вы можете идти по сотням коридоров, мимо комнат, и в каждой комнате идёт большая работа. Там находится бесконечное количество узлов связи, радиостанции, комнаты для персон, для судей, комнаты обвинения, архивы всевозможные, лаборатории для копирования документов, кинолаборатории, киномонтажные комнаты. Я не могу точно назвать цифру аппарата Нюрнбергского суда, но, во всяком случае, утром, когда съезжаются на автобусах и машинах сотрудники суда, то виден этот бесконечный поток людей — пожилых и молодых, мужчин и женщин с портфелями и без. Весь аппарат сотрудников живет в загородных домах, поскольку город разрушен. Подкатывает бесконечный поток машин, и вся эта масса людей поглощается дворцом юстиции. Очень строгая система пропусков. Этот самый "пасс" — пропуск — у вас спрашивают на каждом шагу. На каждом переходе, у каждой двери дворца юстиции стоят американские солдаты. Вы проходите, солдат безразлично кидает это слово "пасс", и пока ему не предъявите пропуск, он вас не пропустит. Пропуска самые различные. Есть пропуск на проход в здание суда, есть специальный пропуск в зал суда и много других специальных пропусков".

Среди сотрудников, конечно, были и немцы – в том числе, нанятые в качестве секретарш. И добродушный охранник-канадец, коротая время в ожидании допуска Шмаглевской в зал 600, рассказал ей: "Приехал сюда из США новый комендант Нюрнберга, сторонник политической линии Рузвельта, и с ходу ввел свои порядки. Первым делом генерал Уотсон велел отобрать у фрау Йодль удостоверение сотрудника Трибунала. Уволили еще двух других немцев — сотрудников Трибунала, поскольку они были членами гитлеровской партии. Эрна Меркель исполняла тут обязанности секретаря у адвоката Бабеля, который защищает организацию СС. А секретарем защитника Риббентропа был доктор Шулеман, он оказался не только членом гитлеровской партии, но и шарфюрером гитлерюгенда".
Но и среди сотрудников, нанятых из числа союзников, порой встречались весьма своеобразные. Борис Полевой запомнил американского охранника на судебных заседаниях: "Один из джи-ай, стоящий часовым, — высокий, красивый парень с круглым интеллигентным лицом, по своей гражданской профессии — циркач. Он будто бы обладает феноменальной памятью, и цирковой номер его состоял в том, что зрители читали ему страничку любого текста, на любом из европейских языков, и он тут же воспроизводил этот незнакомый текст слово в слово, даже если он этого языка и не знал. Так вот уверяют, что его ставят в караул в те часы, когда нужно знать, о чем переговариваются подсудимые. Кое-кто из американских журналистов дружит с этим джи-ай, и он за небольшую плату снабжает их информацией".

Рассказывал писатель и о некоей сотруднице, к которой советская делегация питала дружную неприязнь: "Панна Марыся, весьма хорошенькая и весьма препротивная девица-полька из андресовской армии, сидящая в форме английского солдата возле дверей и занимающаяся весьма скромным делом — продажей талонов на завтраки, обеды и ужины. Мы догадывались, что занимается она не только талонами, ибо слышали в пресс-кемпе, что есть у нее здесь и папаша — высокий человек с офицерской выправкой, будто бы корреспондент каких-то никому не известных газет, и мамаша — эффектная блондинка с талией в рюмочку, которая внешне вполне могла бы сойти за старшую сестру достойной Марыси. Но сферой деятельности этой четы был "Гранд-Отель", где они, не знаю уж на каких официальных должностях, вертелись и тоже главным образом около русских. Скоро пресс-кемп облетела весть о том, что пленительная наша талонщица выходит замуж за капитана армии Соединенных Штатов. Об этой свадьбе заговорил весь пресс-кемп".

Ни для кого не было секретом, что в кулуарах Дворца правосудия все торгуют со всеми – всем (в том числе – информацией). Главный переводчик американских прокуроров Рихард Зонненфельдт вспоминал: "По утрам, чтобы добраться до кабинета, я должен был пройти пропускной пункт, показать документы и потом долго идти по тускло освещенной лестнице. Однажды заметил перед отдельным входом для гражданских лиц очередь на целый квартал. На мой вопрос, что тут такое, мне ответили, что все они пришли устраиваться уборщиками. Почему, подумал я, они так стремятся получить эту лакейскую работу? "Дело не в работе и не в оплате. Дело в концессии на сигаретные окурки", — сказал мне переводчик, стоявший рядом с сержантом караула. Да, из сотни с лишним союзных сотрудников, которые тогда заседали в здании, большинство курило; многие, как и я, за день оставляли у себя в пепельницах по дюжине с лишним окурков. Собрать окурки после рабочего дня, высыпать несгоревший табак в новую бумагу и скрутить папиросы с замечательными табачными смесями — это был грандиозный бизнес в разрушенном городе! К тому же у нас был настоящий кофе, и бывало, что недопитая чашка, которую я оставлял, уходя в допросную, оказывалась по возвращении пустой".
Как они озвучивали историю
Условием первой необходимости для советской делегации была связь. Ее между Нюрнбергом, Москвой и Берлином обеспечивали радисты во главе с Александром Холиным. Развернуть мощную сеть ему пришлось очень быстро – и не без преодоления объективных препятствий, причем неуспех в буквальном смысле мог стоить головы. "Радиостанции были установлены на окраине города, на территории нюрнбергской радиовещательной станции. Приемную аппаратную разместили рядом с нашим домом. Для телеграфного аппарата Бодо нашлась комната во Дворце юстиции. Каждую радиостанцию подключили к телефонному коммутатору узла связи советской делегации". Однако из-за местоположения города – из-за гор поблизости – со связью возникли серьезные проблемы. "От дежурных связистов узнал, что повреждение проводной связи с Москвой не устранено и часть поступившего от наших журналистов материала они направляют на Берлин по кабелю для переотправки его на Москву. Они же сказали, что в этом кабеле имеется шесть неиспользуемых каналов. "А что, если один из этих каналов использовать нам для связи с Москвой через берлинский радиопередатчик, подключив последний через этот канал к нашему комплекту радио-Бодо? — мелькнула в голове мысль. — Это же будет замечательный выход из создавшегося положения!» На центральной междугородной телефонной станции Берлина скоммутировали на мощный передатчик Кенигсвустергаузена один неиспользованный в кабеле канал связи с Нюрнбергом. Канал связи подключили к нашему буквопечатающему телеграфному аппарату Бодо. Прошло совсем немного времени, и мы могли уже прямо из Дворца юстиции манипулировать мощным берлинским радиопередатчиком. Вот это была удача! Москва сразу услышала наш первый же вызов через этот передатчик и дала отличную оценку его слышимости. Опробовали в работе с ней аппарат Бодо и тоже получили прекрасные результаты. Еще бы! Ведь мы стали работать прямо из Нюрнберга берлинским стационарным радиопередатчиком раз в пятнадцать мощнее нашего, да еще к тому же там антенна была направлена прямо на Москву. Этим передатчиком Берлин когда-то до войны поддерживал коммерческую радиосвязь с Москвой. Сразу же полетели в столицу одна за другой радиограммы, которых накопилось за это время целая куча. В основном это были статьи и очерки для центральных газет и журналов, написанные приехавшими на процесс корреспондентами".

К слову, Борис Полевой описывал забавный случай. Однажды к нему обратились с мольбой о помощи американские журналисты. В день допроса Геринга один из них, некий прославленный сноб, представлявший крупный медиа-концерн, лишил всех коллег доступа к линии, буквально приватизировав телеграфные провода обеих компаний, связывавших Европу с Америкой. По правилам, сообщение, которое велось непрерывным «куском», нельзя было прерывать. Предприимчивый мэтр усадил секретаршу передавать телеграммой… Библию, периодически перемежая текст какими-то свежими корреспонденциями. Репортеры, не имевшие возможности передать свои сообщения в редакции, умоляли советских коллег дать возможность воспользоваться их каналом связи и передать новости через Москву. Но это было невозможно: военная сеть, провод идет через Берлин до Москвы без выхода за границу. Все, чем мог помочь Полевой, - шутливый совет набить морду наглому мэтру. Он-то пошутил, а вот те восприняли всерьез. Еще долго маститый американский журналист щеголял пластырем на подбородке, синяком под глазом и выбитым передним зубом. Он уверял, что споткнулся на лестнице, но проблем со связью у его коллег больше ни разу не возникло.

Было в Нюрнберге и особое звуковое сопровождение, которое Сергей Крушинский описывал так: "Самым безжалостным нашим врагом было внутреннее радио. Мощные репродукторы, установленные в каждой спальне и во всех общественных местах, через каждые 20–30 минут начинали гудеть и затем громоподобно повторяли, чтобы мистер такой-то явился туда-то: к международному телефону, к директору пресс-кемпа или даже в бар. Мы спрашивали, нельзя ли вместо радиосети провести телефонную и звонить только тому, кого вызывают, но нам ответили, что для этого потребовалось бы содержать лишнего человека, а военная администрация отпускает лишь строго ограниченное количество пайков. Кроме того, сказали нам, это американский стиль".

Между тем, в Нюрнберге совершилось и еще одно чудо, связанное со звуком. Главный техник Филип К. Эрхорн собрал звуковую систему, передававшую и записывавшую голоса в зале суда. Он сделал это практически в одиночку, раздраженный неумелостью команды техников, по его словам, не знавших, какой конец отвертки использовать. До 1945 года никто никогда не записывал настолько сложного аудио и не пытался переводить многоязычную встречу в режиме реального времени. Любой слушатель в зале должен был иметь возможность найти родной язык, переключаясь между четырьмя каналами.
В основу гениальной конструкции лег секретный аппарат американцев, на который Филип наткнулся в Нюрнберге фактически случайно – услышал классическую музыку, доносившуюся из завалов на улице (кстати, узнал Вагнера), и обнаружил невиданный магнитофон, скорее всего, предназначенный для прослушки телефонных разговоров во время войны. Объединив находку с предоставленной компанией IBM суперсовременной аппаратурой, Эрхорн получил усовершенствованную систему, передававшую аудиозаписи перевода на рекордер. Прокуроры, свидетели и подсудимые записывались дословно на своих родных языках, это транслировалось на граммофонный диктофон, и стилус наносил звуковые волны на поверхность круглых черных пластинок. Голоса переводчиков писали на пленку с тиснением, чтобы стенографистки могли сверять судебные протоколы и корректировать перевод. Автор этого чуда, улыбчивый "очкарик" Эрхорн сидел на каждом заседании в своей зеленой офицерской форме, напряженно вслушиваясь, как микрофон посылает звук через микшер в лабиринт проводов и записывающих устройств. И он навсегда запомнил самый первый раз, когда прокурор Джексон наклонился к микрофону и сказал: "Привилегия открыть первый в истории судебный процесс по делу о преступлениях против мира во всем мире представляет собой серьезную ответственность".
По окончании процесса 1942 граммофонных диска, на которых было записано не менее 775 часов судебного процесса, упаковали в деревянные ящики… а вот куда они подевались потом – начнут выяснять только к 2010-м годам.
Как они фиксировали историю
Как бы там ни было, главными документальными источниками для историков остаются стенограммы Нюрнбергского процесса. Но кто их вел? Кто были эти незаметные скромные женщины, сидящие за специальными машинками-стенографами? В Нюрнберге 1945-46 года таких незаметных скромных женщин было множество. В процессе работы их неизбежно воспринимали как автоматы, но все дело в том, что с безупречным автоматизмом выполняя своим функции, они были живыми чувствующими людьми.

Например, Герта ("Хеди") Шеридан стала стенографисткой и секретарем на Нюрнбергском процессе всего-то в 17 лет. Немка, выросшая рядом с тем самым Полем Цеппелина, на котором НСДАП проводила свои съезды-мистерии. И она была в гитлерюгенде. Надо сказать, отец Хеди был против, но в 1943-м его забрали в армию. К счастью, было достаточно свидетелей того, что он категорически не симпатизировал Гитлеру. Отказ вступить в НСДАП перекрыл для него возможность продвижения по службе на производстве, писем после ухода на фронт не было, родные узнали только, что он попал в лагерь союзников для военнопленных. Когда американцы взяли Нюрнберг под контроль, Шеридан два дня пряталась в угольном подвале: ходили слухи, что солдаты убивают всех встречных. Еды нет, нужно работать. Работа в Нюрнберге была теперь только в одном месте – во Дворце правосудия. И Герту взяли – именно потому, что ее семья не была пронацистской. А вот ее подружку, тоже проходившую собеседование, прогнали с позором из-за отца-высокопоставленного нацистского партийного чиновника. Работа стенографистки обеспечивала минимум один полный прием пищи в день, а если брать сверхурочную, то и еще и ужин. Герта начала с отдела допросов. И практически сразу стала стенографировать допросы Геринга, который еще недавно казался недосягаемым божеством. Следующим был Гесс. Затем – нацистские генералы. Никто из этих людей и взглядом не удостаивал девочку, одну из многих детей рейха, которым искалечили детство. Хеди пришлось часто ездить с начальством по стране, в города рядом с концлагерями. И, конечно, бывать на заседаниях суда. После знаменитого "дня Бухенвальда" с кошмарными экспонатами и показаниями жертв врачей, Герте было физически плохо. Она решилась кое-что рассказать маме, та, в свою очередь, пересказывала знакомым – а те не верили. Однажды американский шеф Герты показал ей документы, свидетельствующие о том, что ее папа, мама и она были в списках на отправку в лагерь за "нелояльность" (что бывает с нелояльными, в нацистском Нюрнберге знали: соседа Герты, любившего после работы в пятницу поругать Гитлера в пивной, убили в Дахау). После процесса Шеридан в буквальном смысле возненавидела родину. К счастью, она влюбилась. В американца, с которым и уехала в 1948 году навсегда.
Среди приезжих стенографисток многие были фронтовичками – и многие не юными. Скажем, американке Анне Нидс было за сорок, когда она пошла добровольцем в женский вспомогательный армейский корпус – 23 года опыта работы стенографисткой пришлись как нельзя кстати. В Нюрнберге ее день включал диктовку, расшифровку, набор всевозможных "форм общения" (допросы, дача показаний, беседы), обработку документов для трибунала и обучение других клерков. Выбираться в город доводилось редко – и главным впечатлением стал масштаб военных разрушений, каркасы разбитых зданий и пустоты на месте квартир.

Александра Андроусу, гречанка из Санторини, переехавшая в Париж до войны, прочла в газете, что МИД Франции нуждается в стенографистках, знающих немецкий и английский. После быстрого обучения узнала, куда ее направляют. И за месяц до начала суда приступила к работе в разрушенном Нюрнберге, в развалинах которого еще таилось 45 тысяч непогребенных тел. Перед работой всему ее "призыву" сделали прививки и поселили в домах-импровизированных отелях примерно в 45 км от города. До начала процесса их всех отвезли в Дахау – целенаправленно, чтобы сотрудники своими глазами увидели, о каких бараках, проволоке и крематориях пойдет речь в скором времени. Андроусу, прикрепленная к французскому прокурору Мунье, стенографировала допросы Геринга, Кейтеля и Розенберга. Впервые войдя в камеру Геринга, она испытала такой ужас, что затряслись руки и делать записи не получалось. Мунье отвел ее в сторону и жестко предупредил: если не возьмет пальцы под контроль, нужды в ее услугах больше не будет. В камеру, где ожидали прокурор и стенографистка, по одному приводили нацистских преступников, и Андроусу раз за разом фиксировала одно и то же: они ни в чем не виноваты, просто выполняли приказ. При всей собранности, она тем не менее на всю жизнь запомнила, как Геринг сказал ее шефу: "Если бы мы выиграли войну, то сделали бы с вами то, что вы сейчас делаете с нами. Но мы проиграли – и все против нас". Группу, в которой числилась Александра, привозили на работу рано утром и отвозили в отель в 11 часов вечера. Так она и прожила год.
35-летняя москвичка Галина Реутт, дочь фрейлины императрицы Александры Федоровны, знала несколько языков и работала на станции иновещания Московского радио. "Меня вызывали к начальнице, та предупредила о срочных "смотринах" у какого-то генерала. Нужно было прилично выглядеть, а мне и надеть-то было нечего. У одной подружки взяла чулки, у другой туфли, у третьей пальто. Посмотрели меня, быстро собрались и полетели на "дугласе" в Германию. Все офицеры, генералы сидели вдоль бортов, а нам, девочкам, постелили на пол брезент, кинули полушубки, и мы спали, прижавшись друг к дружке, пока летели. Было очень холодно. Приличную одежду нам выдали уже в Германии". Девять месяцев Галина стенографировала и переводила на процессе и на всю жизнь запомнила, как, несмотря на включенность в работу, содрогалась от омерзения, слушая Геринга. Ее профессионализм отмечали все писатели советской делегации.
А англичанка Джоан Парсонс во время войны была добровольцем, работала водителем машины скорой помощи, а потом стала личным помощником и стенографисткой лорда Рассела Ливерпульского, одного из главных юридических консультантов МВТ. На протяжении многих лет после Нюрнберга она получала рождественские открытки от нескольких американских генералов.
В 2014 году на Аляске обнаружилась маленькая сенсация – старый сундук в выставленном на продажу доме. А в нем – копии стенограмм судебных процессов в Нюрнберге, справочник сотрудников трибунала для внутреннего пользования, переведенное письмо нацистов с подписью "Хайль Гитлер", коробка с нерасшифрованной пленкой и несколько личных документов. Все это принадлежало покойной Максин Карр, стенографистке. Толком неизвестно, как она попала на Аляску в 1951 году в 29 лет, и неизвестно, когда умерла. Ее 91-летний вдовец, живший в доме престарелых, как оказалось, ничего не знал об этих реликвиях, хотя смутно помнил, что жена, вроде бы, 32 месяца проработала в штате МВТ.
Как они записывали историю
Один из главных, неотъемлемых фоновых звуков Нюрнбергского процесса – стрекот пишущих машинок. Механических машинок, требующих немалой силы пальцев и ловкости рук в стремительном передвижении каретки, замене ленты, перекладывании листов копиркой и устранении мелких проблем вроде сцепившихся металлических штырьков с буковками. Множество машинисток печатало сутками – и, по приблизительным подсчетам, отстучало более 5 млн бумажных листов. Они сидели в своих машбюро в буквальном смысле по щиколотку в устилавшем пол бумажном ковре. То были профи высочайшего класса – с безупречной грамотностью, виртуозной, доведенной до автоматизма скоростью замены листов в каретке и космическим темпом набора до 100 слов в минуту. Начальницы-редакторы – такие, как Гвен Нибергалл или Барбара Биттер, курировали американскую бригаду из 30 машинисток, ежедневно готовивших стенограммы дневных заседаний к следующему утру, – стремительно вычитывали копии и правили карандашом, а затем передавали сотрудникам, ведавшим трафаретом и мимеографами – маленькими машинками для оперативного тиражирования, тоже, естественно, ручными. Тысячи страниц, уже оформленных таким образом как бланки, составляли ежедневную порцию стенограмм, протоколов и вспомогательных материалов. Со стороны это казалось полным хаосом, на деле работало, как часы. Они работали посменно, и дневная смена, закончив в 5 вечера, уходила с трясущимися гудящими руками, тем не менее, предварительно подкрасив губы и взбив волосы. Потому что спать предстояло еще нескоро – сначала не только можно, но и нужно было довести дело еще и до гудящих ног: от души потанцевать в "Гранд-отеле", где некоторые из этих женщин прожили больше года.

Советские машинистки не уступали в профессионализме западным коллегам, только работы у них было больше, а численность – меньше. Они точно так же в первую очередь печатали деловую документацию и стенограммы, но еще помогали авторам, которые не умели или не имели возможности набирать свои корреспонденции самостоятельно. Тамара Носова, впоследствии возглавившая машбюро "Известий", вспоминала о работе в Нюрнберге как о самом напряженном периоде в жизни. Окна комнаты машинисток, расположенной неподалеку от зала заседаний, выходили на тюрьму, а пальцы их под диктовку набирали кошмарные факты о пытках в гестапо и адских муках в лагерях. 50-70 страниц за смену на бешеной скорости, сложная терминология, имена, фамилии, географические названия – девушки работали в предельном напряжении. А если выдавались редкие свободные минуты, пользовались своими пропусками и ходили на судебные заседания. Особенное их сочувствие вызывали переводчики, с которыми машинистки работали в тесном контакте: те, как позже вспомнит Тамара Носова, практически постоянно находились в шоковом состоянии. Машинистки первыми узнавали абсолютно все – за несколько часов до того, как очередные сенсационные известия публиковали газеты всего мира. Старенький "Ундервуд" Носовой приехал из Нюрнберга в Москву и еще долго верой и правдой служил ей в "Известиях" (даже когда газета сменила парк оргтехники и перешла на электрические машинки, Тамара Владимировна так и продолжала печатать на своем "Ундервуде").
Увезла в СССР свою "Олимпию", полученную в Нюрнберге как награду за тяжелый труд, и сотрудница советской документальной части Эра Львова. В документе, разрешавшем ей привезти свою премиальную машинку домой, так и говорилось: "выдан для предъявления таможенным органам" (сегодня эта "машинка времени" находится в музее МВД Минска). Через руки Эры проходили все стенограммы допросов – их нужно было систематизировать, подшить и отправить на сверку со звукозаписью. После войны она станет первой женщиной в Минске, получившей звание подполковника милиции, и возглавит следственный отдел, какое-то время будет директором "Беларусьфильма", снова вернется в прокуратуру... И в эффектной даме в форме и внушительных погонах мало кому придет в голову разглядеть тоненькую девушку, каждый вечер танцевавшую в ресторане "Гранд-отеля" со своими постоянными кавалерами - "Аркашей" Полтораком и переводчиком Бернардом Купером.

Был среди нюрнбергских гениев машинописи и очень особенный человек – американский юноша. 19-летний Лоуренс "Ларри" Тиллеманс, который когда-то страшно не хотел уступать настоянию матери взять курс машинописи в колледже. Еще бы, это не дело настоящего мужчины, машинистками работают только девчонки! И действительно, в его классе он был единственным мальчиком среди 20 девочек. Совсем юнцом стал сержантом 3-й армии Паттона и оказался сначала в числе протоколировавших преступления в Дахау, а потом и в Нюрнберге – в составе группы, документировавшей письменные показания более 200 тысяч выживших жертв Холокоста, а затем – заявления нацистских лидеров и их адвокатов. До Дахау клерк-машинист Тиллеманс о Холокосте практически не слышал, но даже после Дахау то, что пришлось узнать в Нюрнберге, чуть не свело его с ума. Да, он был военным. Но он был юным военным – и все эти месяцы каждую ночь перед сном подолгу плакал в кровати, переживая все узнанное, пока наконец не засыпал от усталости. В основном он работал вне зала 600, но старался попадать туда при любой возможности. Всерьез мечтал убить Ганса Франка. И испытывал острое чувство причастности к происходящему, потому что именно напечатанные им отчеты зачитывали вслух юристы. Ненависть, которая родилась в нем во время процесса, была такой разрушительной, что в конце концов Ларри просто стал молиться, чтобы не сойти с ума. В итоге поверил в Бога и дожил до 93 лет, неустанно читая лекции о том, что узнал. О Тиллемансе сняли документальный фильм под названием "Машинист".

Большинство репортеров, к слову, предпочитали работать за своими машинками самостоятельно – лишь некоторые диктовали машинисткам. В основном для этого занимали пресс-кемп во дворце Фабера. Сергей Крушинский так невзлюбил эту атмосферу, что предпочитал печатать свои корреспонденции в любом другом месте – хоть в гостиничном коридоре: "Уорк-рум, то бишь рабочая комната, заставленная столами всех стилей и размеров. Треск стоял там, как в каменоломне при пневматическом бурении: 30–40 репортеров вечно стучали на пишущих машинках. Еще 5–6 репортеров тут же, стоя у стены с телефонными трубками в руках, кричали во всю глотку на всех мыслимых языках, передавая во все страны света отчеты о последнем заседании Трибунала. Рядом бар – питейное заведение американского образца, где можно выпить у прилавка, сидя на высоком стуле-тумбе, или, при желании, занять столик и составлять коктейли в более спокойной обстановке. Американцы в своих коротких курточках на правах хозяев вопят и хохочут в зале, смешивая в стаканчиках джин, виски, ром и вообще все, что попадется в руку, или играют в кости и во время игры ползают по полу, ездят друг на друге верхом и с грохотом отбрасывают в сторону стулья…"
Как они помогали истории
Помощники, личные ассистенты, секретари – это они нахаживали, а скорее набегали десятки километров в день по коридорам Дворца правосудия и "Гранд-отеля", курсировали между квартирами, гостиницами, пресс-кемпом и тюрьмой.

Скажем, секретарь главного обвинителя от США Роберта Джексона Рут Трайон попала в Нюрнберг почти случайно. В середине 1940-х ей, от природы веселой и авантюрной, просто наскучила работа в фирме по производству запчастей, и она решила подать заявку на заграничную вакансию. Никакого юридического опыта не имела, но бестрепетно соврала. И после экзамена оказалась в Нюрнберге, где жила вместе с 23 женщинами и ела в столовой в сопровождении охранника из соображений безопасности: американцы боялись, что немцы их отравят. В местную пивную Рут пару раз сходила замаскировавшись, потому что, опять-таки, знала, что немцы победителей не жалуют. Днем она неотступно сопровождала мистера Джексона, записывая каждое его слово, ночью – печатала свои записи. Рут была руками, карандашом и ручкой американского прокурора.

А личная помощница Джексона, начинающий юрист Кэтрин Файт спасалась тем, что каждую неделю писала обстоятельные письма родителям. В них нашлось место и досаде из-за "убогого быта", и ужасу от проходивших через ее руки документов с фактами пыток и убийств в лагерях смерти, и понятной гордости от преимущества быть одной из немногих женщин, работающих с группой обвинения, – например, бывать на вечеринках в резиденции главного обвинителя: "Как видите, список женщин, имеющих право участвовать в таких вечеринках, невелик. Так что я всегда там бываю и занимаю почетное место. Это весело, хотя и требует сил, особенно когда устаешь так, как я сегодня".

Зато 20-летнего Ива Бигбедера попросил поработать помощником его родной дядя, французский судья Анри Доннедье де Вабр. Полгода изо дня в день Ив составлял для судьи резюме всего, что происходило, читал стенограмму дебатов, делал 2-3-страничные сводки, диктовал их секретарям и иногда присутствовал на слушаниях "на подхвате". В Нюрнберге его, утонченного юного француза, неприятно поразила вездесущность американской культуры, привнесшей в старинный европейский город гамбургеры, газированные напитки и жвачку. Но по вечерам Ив попадал в свою стихию – на танцы в "Гранд-отеле", где встречалась огромная космополитическая компания переводчиков, секретарей и юристов.

В советской делегации помощники были иного рода – в том числе во всех отношениях много более квалифицированные и выполняющие подчас чрезвычайно ответственные функции секретного порядка. Скажем, деятельность Олега Трояновского выходила за рамки перевода, хотя номинально он проходил по этой графе. Трояновский имел важный опыт дипломатической работы, был блестяще образован, эрудирован в области международных отношений и обладал большим личным обаянием и тактом. Иона Никитченко, уже прибегавший к советам совсем еще молодого специалиста, лично добился, чтобы Трояновского обязательно командировали в Нюрнберг. И на процессе тот сидел позади главного советского судьи, помогая вести переговоры между судьями всех держав, консультировал в сложных случаях перевода, когда возникали сомнения в его точности и идентичности, и участвовал во всех закрытых заседаниях. Советская делегация Олега Трояновского обожала – он слыл человеком исключительного обаяния.
Как они переводили историю
Международный пул переводчиков, в большинстве именно в те дни в рекордные сроки ставших непревзойденными профессионалами, составляли очень молодые люди. Знакомясь с их биографиями, с некоторой оторопью вычисляешь: средний возраст этих юношей и девушек – 22 года. К этому времени одни просто знали иностранные языки и ехали в Нюрнберг, не очень хорошо представляя, с чем предстоит иметь дело, а другие либо уже столкнулись с шокирующими итогами нацистских злодеяний (например, побывав как минимум в одном, а чаще – в нескольких оставленных немцами концлагерях и лагерях смерти), либо прошли фронт. Отметим здесь же еще одну немаловажную особенность: большинству этих совсем юных трудолюбивых "пчел" МВТ выдалась и очень долгая жизнь – многие пересекли 90-летний рубеж, некоторые живы и по сей день. Может быть, так нужно было, чтобы успеть рассказать, чтобы как можно дольше оставаться именно живыми очевидцами и свидетелями, чтобы те дни не превращались в седую древность и сохранялся ведущий к ним мост.
Мы публиковали большой материал о том, как была организована работа переводчиков в Нюрнберге. Но за кадром осталось то, что на самом деле чрезвычайно важно: их чувства.
20-летняя француженка Николь Галуа Хейс думала, что едет на процесс отшлифовать свой английский и подзаработать. И только стойкий запах трупного разложения в Нюрнберге сразу подсказал ей, зачем перед приездом пришлось делать прививки от тифа. Первое раздражение от того, что страницы документов распределялись между переводчиками в беспорядке, в разрозненном виде, сменилось пониманием того, что представало на них, пусть и отрывочно. Ей достались документы, связанные с деятельностью Кальтенбруннера и Зейсс-Инкварта, - и вот так очаровательной юной парижанке открылись ужасы лагерей. Несколько раз она решилась побывать на судебных заседаниях, но психика не выдерживала.

22-летний Джордж Сакхейм выполнял в Нюрнберге устный и письменный перевод в американской команде. А в Америку попал в 1938 году – семья бежала из Германии в Палестину 1933-м. Ушел из колледжа на фронт и освобождал Кельн. И вошел с американскими войсками в лагерь Дора-Миттельбау, филиал Бухенвальда под Нордхаузеном. На его глазах генералы во главе с Эйзенхауэром закрывали лица носовыми платками, чтобы вынести трупное зловоние: никто до того не представлял себе подобного. В Париже, где ждал отправления домой, Джордж увидел объявление о наборе переводчиков для МВТ. Тут же принял решение, отложил возвращение в колледж и поехал в Нюрнберг.
22-летний Зигфрид Рамлер тоже был из сбежавших. В марте 1938 года он, 14-летний австрийский еврей, смотрел из-за шторы, как вермахт марширует по Вене. Вскоре семью выгнали из дома, чудом удалось добраться до Лондона. Сразу же по прибытии в Нюрнберг Зигфриду без всякой подготовки, "с колес" пришлось переводить Ганса Франка. Только юношеская крепость позволяла ему тогда концентрироваться на работе, но испытанный шок догонял и спустя десятилетия.

23-летний еврей Говард Трист работал переводчиком при психиатре Леоне Голденсоне. Его семья бежала из Мюнхена в день начала Второй мировой, надеясь добраться до США, но не хватило денег, и Говарда отправили первым в апреле 1940-го. Родители и сестра должны были вырваться через месяц, но отсрочка стоила жизни – мама и папа погибли в Освенциме. Теперь же Тристу пришлось подолгу говорить с комендантом Освенцима Рудольфом Хёссом, убийцей его родителей. Кое-кто в те дни шептал ему: ты остаешься с Хёссом в камере один на один, ты можешь отомстить, просто пронеси с собой нож. Но тот не хотел марать руки убийством – был уверен, что преступника повесят. Пришлось Тристу много общаться и с Юлиусом Штрейхером. "У него были бумаги, которых он не хотел показывать никому, потому что не желал, чтобы они попали в руки евреев. В итоге отдал их мне - я был высоким голубоглазым блондином. Он сказал, что отдаст их переводчику, потому что уверен, что это истинный ариец, определил по выговору". Кстати, ни один из нацистов, чьи слова переводил Говард, не знал, что перед ним еврей. Только удивлялись, что почему-то переводчик "арийской наружности" ни разу не подал им руки.
Отдушиной для француза Стефана Приаселя были письма жене, в которых он признавался, что ничего труднее с ним не было, и что сильнейшее нервное напряжение после каждого заседания сменяется истощением. Первым заданием Приаселя было переводить заявление того же Штрейхера, длившееся более часа. По окончании работы до Стефана дошло, что ему удалось на это время полностью отождествить себя с существом, которому сопротивлялось все его нутро. В этот момент Приасель понял, что действительно имеет право называть себя переводчиком.
Еврей Арман Якубович рос в Страсбурге, знал несколько языков, изучал немецкую литературу. А 1942 году его родителей убили в Освенциме. Арману с женой удалось бежать во Францию, но там его еврейское происхождение быстро выяснилось, и с огромными трудностями им пришлось бежать уже в Швейцарию. Нюрнберг Армана сломал. Из представленных там документальных фильмов и показаний Рудольфа Хёсса Якубович понял, что произошло с его родителями. После этого он так и не оправился, хотя и сделал большую карьеру. Работа на процессе разрушительно повлияла на его личность, семейная жизнь разладилась, и в конце концов жена забрала детей и уехала в США. Парадоксально Якубович всю жизнь был ярым противником смертной казни.

Переводчик Андрэ Каминкер, отец французской кинозвезды Симоны Синьоре, говорил, что, даже при его предыдущем опыте в Лиге Наций, эта работа выше человеческих сил. Не только из-за того, что приходилось оперировать разнообразной терминологией (политика, дипломатия, право, медицина, военная техника), но и из-за предельно нервозной обстановки и эмоционального напряжения.
Русский эмигрант князь Георгий Васильчиков много месяцев переводил в Нюрнберге с русского на английский и французский (языки в аристократической семье Васильчиковых прозорливо считали инструментом выживания). Его безупречное знание русского, причем не старорежимного, а современного, отметили все советские коллеги (к очаровательной Татьяне Ступниковой он, говорят, испытывал романтические чувства). Васильчиков чудовищно заикался, но заикание поразительным образом исчезало, стоило ему склониться к микрофону. При том, что Васильчиков был ярым антикоммунистом и ненавидел большевизм, он, понимая беспрецедентность и величие происходящего, сумел полностью игнорировать свои принципы, сотрудничая с советской делегацией. О Нюрнберге никогда не написал, зато отредактировал и опубликовал знаменитые "Берлинские дневники: 1940-1945" своей сестры Мисси.
Русских эмигрантов в переводческих пулах союзных держав было много. И, опять-таки, в те дни отошли на задний план все вопросы "русского" и "советского" - эмигранты предлагали помощь советским коллегам. Аркадий Полторак вспоминал блистательную фразу главы русской секции американского бюро переводов княгини Трубецкой, обращенную к недовольному таким сотрудничеством полковнику Достеру: "Милый полковник, позвольте нам, русским, самим договориться с русскими". А однажды группа русских переводчиков из западных делегаций попросила показать документальные фильмы о преступлениях нацистов на советской территории. "Такой сеанс был организован, и трудно описать, что на нем происходило. Плакали поголовно все – мужчины и женщины, молодые и старые".

О советских переводчиках Аркадий Полторак написал в "Нюрнбергском переводе" подробно и с огромным уважением, поименно назвав и тепло охарактеризовав каждого в передовом составе. Группа советских переводчиков была самой малочисленной – всего лишь 40 человек. И они выкладывались, работая по 15-16 часов в сутки, садясь за перевод документов и стенограмм после целого дня в зале и успевая помогать друг другу. Когда переводчица Наталья Лебедева вернулась домой в СССР, родители пришли в ужас, так она исхудала: "Ты где была – в Нюрнберге или в Освенциме?!"
Еще один спасшийся от нацизма работник американского пула – единственный в Нюрнберге переводчик греческого происхождения Эрик Симха. Его семья бежала в Цюрих ровно за день до Хрустальной ночи – а весь оставшийся многочисленный клан, рассыпанный по Европе, впоследствии депортировали и уничтожили. Эрика в Нюрнберге спасло чувство юмора и юность – все коллеги, включая представителей других союзнических делегаций, отмечали его артистизм и оптимизм.
Вульф Хью Франк родился в семье богатого баварского промышленника. Что ничуть не помешало ему возненавидеть нацизм, бежать в Англию в конце 1930-х и воевать против немцев в британской армии. Говорят, Вульфа, главу британской команды, единогласно признавали вообще лучшим переводчиком на процессе. После того, как именно он с великосветским английским прононсом огласил все смертные приговоры, газета Times назвала Франка "голосом судьбы".
Между тем, в английской команде вообще были асы-уникумы – молодые женщины, еще недавно работавшие в легендарном Блетчли-Парке непосредственно с кодом "Энигма" и секретным компьютером-дешифровщиком "Колосс", перехватывавшим приказы высшего немецкого командования. Их элитная группа, по мнению глав союзных государств, сократила войну на несколько месяцев и спасла тысячи жизней. Эти тихие девушки, профи-переводчики высочайшего класса – Берил Лоури и Элизабет Харди – с тех самых пор отлично ориентировались в именах, терминах и событиях, упоминавшихся на процессе, и как мало кто умели держать язык за зубами.

За секретностью приходилось следить и начальнику американского отдела переводов Рихарду Зонненфельдту (кстати, тоже бежавшему из рейха в 1938-м): его должность не была военным званием, но предполагала руководство всеми переводчиками, стенографистками и машинистками управления по проведению допросов. Всем хотелось посмотреть на главных нацистов, и Рихард чередовал задания, отправляя подчиненных к разным свидетелям и следователям. Перед каждым досудебным допросом от них требовалось принести присягу - поднять правую руку и поклясться точно, полно и верно переводить вопросы и ответы и записывать. Стенографисткам было проще – они все писали на английском и иногда могли отдохнуть и покурить. А Рихард настолько погрузился в процесс, что, когда вечером в баре "Гранд-отеля" к нему обращались на английском, автоматически повторял это на немецком.
Как они переживали историю
Психологическая стойкость этих людей поражала – даже в то суровое время, когда никто и в мыслях не имел, что сотрудникам подобного процесса нужно постоянное психотерапевтическое сопровождение. Одним помогала молодость, другим – взрослость. Психику одних спасала юная адаптивная гибкость, психику других – зрелый опыт, а то и некоторое выгорание. Но даже закаленным, прошедшим фронт (там ведь были совсем молодые юноши и девушки, успевшие послужить в разведке или первыми войти в лагеря смерти) иногда становилось дурно от услышанного и увиденного. И Таня Ступникова видела, как "один из охранников, неподвижно стоявший, заложив руки за спину, в шеренге американских солдат, которые охраняли подсудимых, внезапно исчез за деревянным барьером. Заседание суда не было прервано. Оно продолжалось так, как будто ничего не случилось. Можно было только догадываться, как этот потерявший сознание солдат смог пролежать до очередного перерыва в узком проходе между стеной зала и деревянным барьером, ограждавшим скамью подсудимых, да еще и под ногами своих товарищей".

Не только люди в зале падали в обморок и кого-то то и дело выносили с балкона для публики. Но и Кукриниксы впервые не смогли ни штриха провести в своих папках в "день Бухенвальда" – просто застыли, когда услышали о поделках из человеческой кожи, увидели высушенную голову-пресс-папье и шрамы на телах бывших узников, изувеченных медицинскими экспериментами. А с переводчицей Майей сделалось плохо. "Она сидит в трясущейся машине, истерически всхлипывает, кусая губы, и сидящие возле нее машинистки суют ей в нос пузырек с какой-то остро пахнущей дрянью. Не знаю, надолго ли, но на сегодня мы-таки действительно потеряли аппетит и сон", - писал Борис Полевой.

Нюрнбергский процесс для тех, кто там работал, состоял из многих суток, а сутки – из дня и ночи, а день – из утра, дня и вечера. И все это вмещало множество деталей, принципиально разных. Девочки-переводчицы утром прихорашивались перед зеркалом, а днем транслировали чудовищные подробности пыток и убийств – не просто на иностранные языки, а в принципе на язык человеческий. А в промежутках ели в столовой и перешучивались с военными всех союзных стран. А потом снова давали слово главным нацистским преступникам и главным юристам мира. А вечером, падая с ног от усталости, тем не менее бежали танцевать в Гранд-отель, потому что вот так, на самом деле, утверждали жизнь и попросту переключались от фантасмагории к норме. Мужчины – помощники юристов, прокуроры, адвокаты, ассистенты судей, переводчики, технические специалисты, журналисты, - толпились ближе к ночи в баре у обаятельного белозубого американца Дэвида, к каждому событию процесса изобретавшего очередной фирменный коктейль с "нарицательным" названием, будь то имя подсудимого, сенсационный журналистский материал или Фултонская речь. В те баснословные дни находилось место всему – болезням и нервному истощению, папильоткам, губной помаде и выщипыванию бровей, суетливому бегу по коридорам с кипами бумаг, джазу и анекдотам в пресс-кемпе, пастилкам от севшего голоса, хоровому пению шлягеров всех стран Европы и Америки, стихийным вечеринкам, спорам до драки, романтическим приключениям и встрече настоящей любви на всю жизнь.

Советская переводчица Татьяна Рузская вспоминала: "Люди невольно старались как-то смягчить ужасные впечатления. Однажды я заметила, что молодые английские обвинители пришли на процесс с красными розочками в петлицах. И только позже, когда мы были на приеме у заместителя главного английского обвинителя, сэра Дэвида Максуэлла Файфа, мне показали росший у коттеджа большой куст, усыпанный красными розами, с него-то молодые обвинители и срывали цветы, идя на процесс. А сэр Дэвид — этот обаятельный и мужественный шотландец, гроза подсудимых на допросах, — стоя со мной на балконе, неожиданно признался: "А вот здесь я слушаю соловья".
Они безусловно нуждались в отвлечении. Его обеспечивал тот же "Гранд-отель" - праздничная атмосфера ресторана, ревю на сцене, танцы в зале. Разноязыкая толпа, выпивающая, смеющаяся, танцующая. Впервые увидев это, приехавшая всего на несколько дней Северина Шмаглевская испытала сложнейшее, тяжелейшее чувство – происходящее казалось ей предательством всех, чьи страдания и гибель изо дня в день составляли содержание судебных заседаний. Способность беззаботно веселиться вечерами казалась ей доказательством равнодушия и бессердечия нюрнбергского международного общества.

Вторил ей и заглянувший в Нюрнберг буквально на денек Ивлин Во: "Сотни вялых, пресыщенных, размалеванных, отвратного вида юных секретарш безостановочно бегают по приемам и банкетам, которые устраиваются в холлах одного и того же отеля. "О Боже, я же обещала пойти к французам и к румынам, а ведь еще прием у генерального прокурора, а мне еще переодеваться! Надо бежать!" Пробежать придется от силы сотню метров в соседний холл. Безработные барристеры живут в свое удовольствие: у них отпуск со всеми удобствами и на всем готовом". Ивлин Во, в отличие от "юных секретарш", не провел в Нюрнберге год с лишним, не услышал и не напечатал тысяч показаний о пытках и казнях, ему не нужно было гнать от себя перед сном запомнившиеся кошмары с фотографий и хроникальных кадров. Отчего бы и не припечатать их всех разом?
А они просто хотели чувствовать себя живыми.
Как они вписывались в историю
Если выпадала свободная минутка, переводчицы союзников исследовали Дворец правосудия – подсматривали, что творится в огромной кухне и столовой, как налажена внутренняя почта, что представляет собой внутренний рынок, который называли "пещерой Али-Бабы" и на котором продавали и покупали сигареты, часы, конфеты и радиоприемники. А после работы вестибюль отеля заполнялся мужчинами и женщинами в американской, советской и британской форме и гулом вавилонского смешения языков. И девушки танцевали джиттербаг с американцами и вальс с русскими, а однажды толпой хлопали некоему всем запомнившемуся седому и густобровому советскому полковнику, который сорвался с места и пошел вприсядку.
Все женщины обсуждали жен и любовниц нацистов, которые либо присутствовали в публике, либо привлекались как свидетельницы. Во-первых, пытались понять, как можно жить с палачами, а во-вторых, досадовали, что у тех по-прежнему есть возможность дорого одеваться.
В этом смысле рядовым сотрудницам трибунала похвастаться было нечем. Особенно сложно приходилось советским девушкам. "Известинец" Михаил Долгополов даже отметил это в одном из отчетов: "Одежда нашего женского персонала выглядит так бедно, что англичане и американцы посмеиваются". Но "женский персонал", выстоявший в военных лишениях, не отчаивался. У Эры Львовой до поездки в Нюрнберг вообще ничего не было, кроме формы и шинели. Перед отправкой ей выдали отрез ткани на костюм, пару туфель и смешной берет. "Я думала, что буду самой модной, но оказалось, что лучше всех были одеты американцы и англичане, а французы такие же бедные, как мы. Но на продуктовые пайки и американские сигареты Camel мы наменяли у немцев модных одежек".
А француженки подарили нашим девушкам бесценный навык. Без чулок в ресторан "Гранд-отеля" не пускали – и тут оказалось, что можно просто рисовать на ногах карандашом чулочный "шов"! И советские девушки были так хороши, что на танцполе возникали уже другие проблемы. Муж Эры, военный прокурор Аркадий Львов, за которого она вышла на фронте, и ее кавалеры очень злились, но терпели характерную манеру союзников – те подходили во время танца, хлопали мужчин по плечу, и тем следовало уступить даму. Но не заводить же драку с американцами или англичанами у всех на глазах в ресторане!

Все стремительно учили языки – во всяком случае, на уровне, позволявшем объясняться сразу на смеси английского, русского и французского. Иностранные журналисты записывали в блокнот под диктовку советских слова и выражения и повторяли, пытаясь добиться правильного произношения. В офицерском клубе радист Холин с товарищами пробовали смешной напиток – тянули через соломинку из бокалов виски с соком и льдом. "Нас быстро заметили: сначала с соседнего стола, а затем и с других начали подсаживаться иностранцы со стаканами в руках, чтобы познакомиться. Запросто вели себя американские офицеры. Незнание языка с обеих сторон вполне компенсировалось улыбками, похлопыванием по плечу, подливанием виски и возгласами: "Прозит!" Совершенно обособленно держались в зале французы. Зато очень назойливо вели себя трое англичан, от которых было трудно избавиться, тем более что двое из них прилично знали русский язык. Из разговоров выяснилось, что осваивали они язык еще во время интервенции Антанты на севере нашей страны в 1919–1920 годах. Они хорошо помнили Архангельск и даже такие пригороды, как Маймаксу и Исакогорку".
Делегации устраивали приемы – и там не обходилось без курьезов. Татьяна Рузская рассказывала: "Однажды на обеде у англичан я попала в глупейшее положение. Подали их любимую спаржу, которую, по словам молодого обвинителя, специально доставляли в Нюрнберг самолетом из его поместья. Я со страхом смотрела на эти толстые белые стебли: как же их есть? Хозяева ждали, пока начнет дама, и не сводили с меня глаз, от чего я смущалась еще больше. Пауза затянулась, и наконец один из них, весело взглянув на меня, сказал: "У нас это едят так". С этими словами он взял спаржу руками и, запрокинув голову, отправил в рот".
И очень часто пели. Советская делегация могла завести в нюрнбергском ресторане "Стеньку Разина". Другие просили еще что-то русское – и тогда пели "Вниз по матушке по Волге". А дальше, как описывал Полевой, "рослый рыжий шотландец в традиционном национальном костюме — гетрах, коротенькой юбочке и черной курточке с ясными пуговицами, — взяв у музыканта флейту, стал исполнять мотивы своей родины. Американцы рванули широко известную и у нас песню летчиков "…Мы летим, ковыляя во мгле, мы к родной подлетаем земле…". Ну а англичане ответили своим "До свиданья, Пикадилли". Хоры перемешались. Теперь всем хотелось петь. Шум стоял невероятный. И не знаю уж, по чьему заказу, оркестр заиграл "барыню". Одна из наших стенографисток, очаровательная черноглазая брюнетка, пустилась в пляс, и вслед за ней, лихо дробя и приседая, вскочил в круг кинорежиссер Роман Кармен. Это была красивая пара. Танцевали так лихо, что зрители принялись звучно прихлопывать ладонями. Не стерпело сердце и у одного из англичан, которого мы знали как видного юриста, очень хладнокровного человека. Он тоже бросился в круг, выделывая вокруг пляшущей девушки какие-то свои, английские кренделя. Темп музыки ускорялся. Кармен сбросил пиджак и засучил рукава сорочки. Его английский соревнователь повторил то же самое, каким-то слишком уж сильным рывком оборвал пуговицы, державшие подтяжки, и сгоряча не заметил, как брюки, лишенные поддержки, поползли вниз. Он продолжал выделывать свои коленца, а между тем уже сияли голубые трикотажные исподники. И вот тут все мы увидели пример английской организованности. Англичане-мужчины как-то сразу оказались на месте аварии, окружили танцора тесным кольцом, и так, загораживая собой, как ширмой, они и вывели его из зала…"
А иногда все они приходили в ярость. Когда, например, заметили, что некий местный аккордеонист Макс, повадившийся играть на вечерах, слишком хорошо говорит на русском, но уверяет, что не был в России. А потом оказалось, что Макс – эсэсовец и очень даже там был. Больше его на вечерах не видели.

Они знакомились и обменивались сувенирами. И Иосиф Гофман, получив в подарок от сержанта-палача Вудса часы, смог отдарить ему только звездочку с пилотки. Впрочем, как он рассказывал, личной охране советских юристов особенно контактировать с "чужими" не позволялось: "Однажды на приеме у американской делегации ко мне подошла американка, возможно, переводчица с английского на русский язык. Спросила, откуда я родом, не скучаю ли по дому. Разговор длился не более 5-7 минут. На следующий день меня вызвал соответствующий начальник и поинтересовался, о чем мы с ней беседовали. (…) А на одном из приемов, который устраивала наша делегация, ко мне подошел американский полковник и предложил бокал шампанского. Я, конечно, отказался под предлогом, что вообще не употребляю спиртного. Он не настаивал. Я обратил внимание, что американцы во время застолья никого не принуждают есть или пить. Все на столе — хочешь ешь и пей, а не хочешь — твое личное дело. Полковник не успокоился и предложил сфотографироваться на память о пребывании в Нюрнберге. Я немного растерялся. Вдруг увидел своего напарника. Он дал мне сигнал — мол, порядок, действуй, я подстрахую. Нас сфотографировал один из американских гостей. Жмем друг другу руки. Он обнял меня за плечо. Через несколько дней мне передали эту фотографию".

Как они любили в истории
И, конечно, жизнь утверждала себя в Нюрнберге и через любовь. Было бы странно, если бы место, переполненное умными, яркими, привлекательными людьми, не порождало и романтических эмоций. Они были необходимы в послевоенное время – именно там, где говорили о смерти, именно там, где доказывали, что смерти не удалось победить.
Конечно, официально «неуставные» отношения не приветствовались – ни в одной из делегаций. Но… Немало браков заключили именно после Нюрнберга. Немало тех самых стенографисток, машинисток и переводчиц уехало за своими женихами в другие страны. Немало коротких романов завязалось, чтобы вскоре закончиться.
Борис Полевой тепло и сочувственно замечал, что юная советская переводчица Майечка по прозвищу "Стойкий оловянный солдатик" явно влюбилась в маститого элегантного писателя Константина Федина – совершенно бескорыстно и невинно, просто восхищенно глядела на него и искала любой возможности побыть рядом хоть немножко. А не менее маститая английская писательница Ребекка Уэст вступила в недолгие отношения не с кем-нибудь, а с самим судьей Биддлом. Советской же переводчице Серафиме Пономаревой и ее возлюбленному, советскому офицеру, пришлось преодолеть много преград, пока их прошение о разрешении пожениться все-таки удовлетворили. А Таня Ступникова встретила любовь в первый же день. Несмотря на опыт фронтовой разведчицы, она задержалась – и заблудилась в коридорах Дворца, пока группа ждала в автобусе. В итоге американская охрана заперла девушку в какой-то каморке. Куда вскоре и ворвался переводчик Костя, с которым вот только сегодня познакомились и которого отправили искать Таню. "Наконец-то я нашел тебя!" — были его первые слова, которые мы потом так часто повторяли друг другу", – в результате Таня и Костя влюбились и поженились.

А паре американских юристов – Хариетт Зеттерберг и Дэниэлу Марголису – пришлось скрывать отношения от коллег из-за действующих в делегации ограничений на совместное проживание и работу мужей и жен. "Жить во грехе, - вспоминал потом Марголис, – было более приемлемо, чем обнародовать свой брак". Когда Хариетт забеременела, ее отправили домой в Штаты.
Иногда отношения были невозможны по политическим причинам. Иосиф Гофман припомнил: "Мне рассказывали ребята, что командир взвода наружной охраны (кроме нашей была и американская), влюбился в француженку. В 24 часа его убрали из Нюрнберга. Больше о нем никто ничего не слышал". А Рихард Зонненфельдт, увы, не получил возможности толком познакомиться с красивой советской девушкой: "Я также выполнял обязанности сотрудника по связям американского обвинения с другими прибывшими на процесс делегациями. Дальше по коридору от меня находились помещения русской делегации, в числе которой была полногрудая блондинка в звании лейтенанта. У нее было свежее лицо сельской жительницы и широкая притягательная улыбка. Как-то раз я встретил ее в коридоре, и, хотя она не говорила по-немецки, английски или французски, все равно решил пригласить ее на свидание. Я нарисовал ей на листке Гранд-отель — наш центр общественной жизни и часы, которые показывали шесть часов. Она кивнула и улыбнулась, и я с волнением стал ждать приятного вечера. Меньше чем через час ко мне в кабинет зашел русский полковник, пожал мне руку и сел. Он нарисовал женщину с погонами русского лейтенанта, часы, показывающие шесть, и домик и написал адрес. Я увидел, что это резиденция советского обвинителя. Он сказал: "Да?" — а я сказал: "Нет". Я не собирался идти на свидание в дом советского генерала. Очевидно, Советы видели в моем потенциальном романтическом свидании государственное дело. После этого мы с лейтенантом улыбались друг другу, сталкиваясь в коридоре, но так и не встретились за его пределами. Но в Нюрнберге были и другие привлекательные женщины: британки, француженки, датчанки, американки, гражданские на службе в армии, журналистки, секретари, переводчицы. Я завел много хороших и близких друзей среди мужчин и женщин из разных делегаций. Некоторые из них остались моими друзьями на десятилетия. Но большинства уже нет в живых, потому что я был намного моложе, чем они".

Как они покидали историю – и оставались в истории
В конце концов они уезжали из Нюрнберга. Кто-то с облегчением, кто-то с разочарованием, кто-то с чувством выполненного долга, и все – сознавая неминуемую ностальгию в будущем. Борис Полевой увозил на память салфетку, вышитую мамой его шофера Курта. А всем советским журналистам оставила по карминовому поцелую на щеках лихая репортерша-оторва Пэгги.

Северина Шмаглевская чувствовала это так: "Мы оставляем позади веселящийся Нюрнберг; Нюрнберг симфонических оркестров и великолепных ревю; Нюрнберг, упивающийся жизнью, вовлекающий всех подряд в свой веселый, радостный хоровод; Нюрнберг роскошных танцевальных вечеров; Нюрнберг, беснующийся в ритмах африканских джунглей; Нюрнберг, празднующий конец войны.
Мы оставляем позади местное кладбище собак с выбитыми на камнях кличками, чтобы смерть четвероногих существ не осталась безвестной, чтобы люди всегда помнили тех, кто достоин памяти.
Позади остается фрау Йодль, супруга увядающего на скамье подсудимых генерала; может быть, с человеческой точки зрения и нет ничего странного в том, что она ухитрилась стать секретарем немецкого юриста — защитника Йодля. Это мелочь, что она получала плату за свою ревностную службу. Но разве можно считать фрау Йодль беспристрастным работником Суда Народов?
Там же остался смиренный гардеробщик из пресс-центра, которого, впрочем, уволили, когда выяснилось, что он был офицером не то СС, не то СД".

А Ребекка Уэст, чье описание процесса, конечно, больше "высокая литература", чем репортаж, сумела точно ухватить именно предотъездное настроение, овладевшее всеми, кто возвращался в нормальную жизнь.
"Люди спешили по коридорам в кабинеты друг друга, прощаясь – прощались друг с другом, прощались с судом, прощались с ощущением, похожим на стремительное падение. Конечно, если они были великими, потому что только великие могли вырваться из Нюрнберга. Обычным пришлось ждать в аэропорту или на вокзалах в течение нескольких дней из-за тумана, и самолеты не могли безопасно взлетать по утрам, и все больше людей пыталось вернуться домой на поездах. На полу в каждом офисе громоздились упаковочные ящики: пишущие машинки уезжали домой, канцтовары – домой, папки – домой. Старшие наклонялись, прощаясь с младшими сотрудниками, стоявшими на коленях у ящиков, младшие светились восхищением перед старшими. Это было, как вечеринка, это было, словно отправляться в круиз, но только как в детстве, когда никто не сомневается, что окончание школьного семестра - это прекрасно. Но тем, кто оставался, уже не очень удавалось веселиться после заката солнца. И кто-то сказал: "Черт возьми. Я смотрел на этих людей десять месяцев. Я знаю их, как мебель в своей комнате. О, черт побери…"