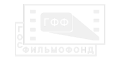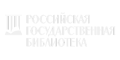О нацизме и нацистах написаны и еще будут написаны тысячи книг. Вопрос, который ставит себе каждый писатель – почему люди выбирают служить злу и не раскаиваются в том, что стали причиной мук и гибели миллионов невинных – не имеет ответа уже 75 лет, с момента окончания Нюрнбергского процесса. Редакция проекта "Нюрнберг. Начало мира" тоже хотела найти свой ответ, но не смогла – преступники не раскаялись, несмотря на неоспоримые доказательства и шок всего мира, узнавшего чудовищные подробности о нацистской машине насилия. Однако лучшие писатели будут и дальше искать ответ на этот вопрос – почему одних столкновение с нацизмом разрушает, а других превращает в героев и праведников. Мы собрали в этом списке произведения, которые, на наш взгляд, наиболее интересно и глубоко раскрывают нам, современникам, тему столкновения личности и нацистской идеологии. Здесь есть классика, написанная давно, и бестселлеры новейшего времени.
Юлиан Семенов. Серия романов о разведчике Максиме Исаеве (Штирлице).

Юлиан Семенович Семенов (Ляндрес) - писатель, сценарист и поэт, начал свою творческую деятельность как журналист, долгое время работал в Западной Германии. Будучи корреспондентом "Литературной газеты", взял и интервью у бывшего рейхсминистра, подсудимого Нюрнбергского процесса Альберта Шпеера, и у одного из организаторов бегства нацистов от суда Отто Скорцени, много работал в архивах. В 1986 году стал президентом Международной ассоциации детективного и политического романа (МАДПР) и главным редактором сборника "Детектив и политика", издававшегося этой ассоциацией совместно с Агентством печати "Новости". Однако его романы – не просто детективы. В них Юлиан Семенов показал нацизм с уникальной точки зрения советского разведчика, русского интеллигента, от взгляда которого не укрывается то, что порой не силах были разглядеть и сами немцы. В основе книг – реальные события, документы, воспоминания очевидцев. Их отличает не только соответствие исторической реальности, но и глубокий психологизм, точность оценок, желание служить правде не только документальной – но и человеческой, умение видеть окружающий мир глазами других людей – в том числе и глубоко ему отвратительных.
ЦИТАТА:
"- Хайль Гитлер! - сказал Штирлиц.
- Да ладно вам, - буркнул Мюллер, - у меня и так в ушах звенит...
- Я не понимаю... - словно натолкнувшись на какую-то невидимую преграду, остановился Штирлиц, не спуская руки с массивной медной ручки, врезанной в черную дверь.
- Бросьте. Все вы прекрасно понимаете. Фюрер не способен принимать решений, и не следует смешивать интересы Германии с личностью Адольфа Гитлера.
- Вы отдаете себе...
- Да, да! Отдаю себе отчет! Тут нет аппаратуры прослушивания, а вам никто не поверит, передай вы мои слова, - да вы и не решитесь их никому передавать. Но себе - если вы не играете более тонкой игры, чем та, которую хотите навязать мне, - отдайте отчет: Гитлер привел Германию к катастрофе. И я не вижу выхода из создавшегося положения. Понимаете? Не вижу. Да сядьте вы, сядьте... Вы что, думаете, у Бормана есть свой план спасения? Отличный от планов рейхсфюрера? Люди Гиммлера за границей под колпаком, он от агентов требовал дел, он не берег их. А ни один человек из бормановских германо-американских, германо-английских, германо-бразильских институтов не был арестован. Гиммлер не смог бы исчезнуть в этом мире. Борман может. Вот о чем подумайте. И объясните вы ему - подумайте только, как это сделать тактичнее, - что без профессионалов, когда все кончится крахом, он не обойдется. Большинство денежных вкладов Гиммлера в иностранных банках - под колпаком союзников. А у Бормана вкладов во сто крат больше, и никто о них не знает. Помогая ему сейчас, выговаривайте и себе гарантии на будущее, Штирлиц. Золото Гиммлера - это пустяки. Гитлер прекрасно понимал, что золото Гиммлера служит близким, тактическим целям. А вот золото партии, золото Бормана, - оно не для вшивых агентов и перевербованных министерских шоферов, а для тех, кто по прошествии времени поймет, что нет иного пути к миру, кроме идей национал-социализма. Золото Гиммлера - это плата испуганным мышатам, которые, предав, пьют и развратничают, чтобы погасить в себе страх. Золото партии - это мост в будущее, это обращение к нашим детям, к тем, которым сейчас месяц, год, три года... Тем, кому сейчас десять, мы не нужны: ни мы, ни наши идеи; они не простят нам голода и бомбежек. А вот те, кто сейчас еще ничего не смыслит, будут рассказывать о нас легенды, а легенду надо подкармливать, надо создавать сказочников, которые переложат наши слова на иной лад, доступный людям через двадцать лет. Как только где-нибудь вместо слова "здравствуйте" произнесут "хайль" в чей-то персональный адрес - знайте, там нас ждут, оттуда мы начнем свое великое возрождение! Сколько вам лет будет в семидесятом? Под семьдесят? Вы счастливчик, вы доживете. А вот мне будет под восемьдесят... Поэтому меня волнуют предстоящие десять лет, и, если вы хотите делать вашу ставку, не опасаясь меня, а, наоборот, на меня рассчитывая, попомните: Мюллер-гестапо - старый, уставший человек. Он хочет спокойно дожить свои годы где-нибудь на маленькой ферме с голубым бассейном и для этого готов сейчас поиграть в активность... И еще - этого, конечно, Борману говорить не следует, но сами-то запомните: чтобы из Берлина перебраться на маленькую ферму, в тропики, нельзя торопиться. Многие шавки фюрера побегут отсюда очень скоро и - попадутся... А когда в Берлине будет грохотать русская канонада и солдаты будут сражаться за каждый дом - вот тогда отсюда нужно уйти спокойно. И унести тайну золота партии, которая известна только Борману, потому что фюрер уйдет в небытие... И отдайте себе отчет в том, как я вас перевербовал за пять минут и без всяких фокусов. О Шелленберге мы поговорим сегодня на досуге. Но Борману вы должны сказать, что без моей прямой помощи у вас ничего в Швейцарии не выйдет.
- В таком случае, - медленно ответил Штирлиц, - ему будете нужны вы, а я стану лишним...
- Борман понимает, что один я ничего не сделаю - без вас. Не так-то много у меня своих людей в ведомстве вашего шефа..."
Робер Мерль. Смерть – мое ремесло. М.: Кристалл, 2005 г.
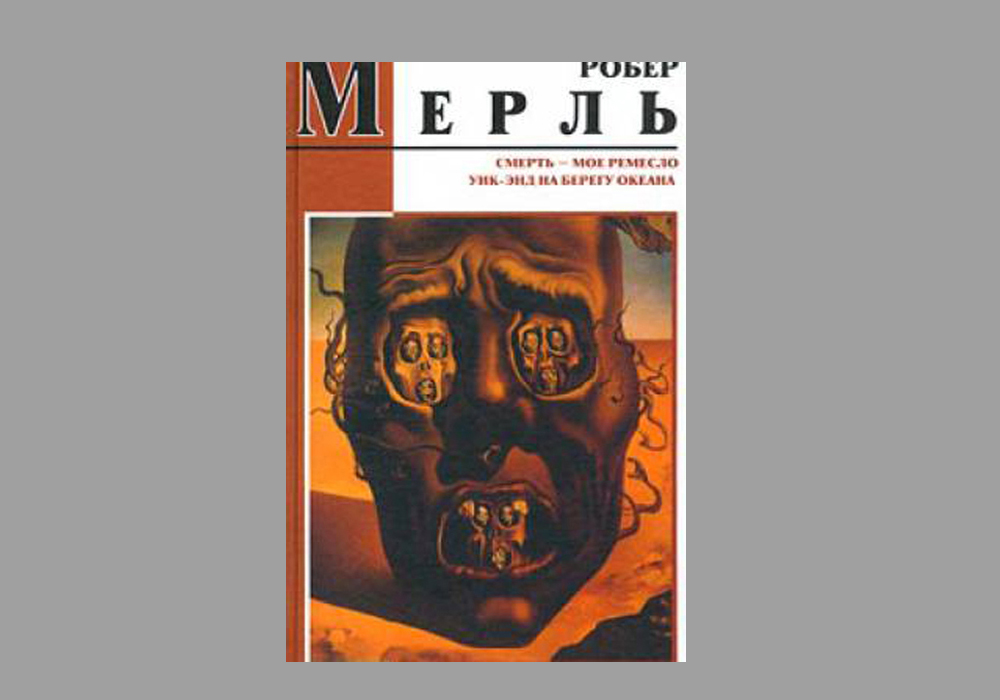
Робер Мерль стал одним из самых успешных писателей Франции в ХХ веке, обладателем Гонкуровской премии и Большой премии Жана Жионо. В его долгой жизни была и война с нацистами, и плен, из которого он пытался бежать.
Однако среди его книг особняком стоит роман "Смерть – мое ремесло".
Писатель пошел на необычайно смелый эксперимент – он рассказал об Освенциме от лица… его коменданта. О его юных годах, "службе", о рутинных днях самого знаменитого лагеря смерти.
В основе романа – биография коменданта Освенцима Рудольфа Хесса, однако в книге автор дал ему имя Рудольфа Ланга.
ЦИТАТА:
"Два больших крематория были закончены до срока. И 18 июля 1942 года рейхсфюрер лично прибыл на их открытие.
Машины с официальными лицами должны были прибыть в Биркенау в два часа пополудни. Но в половине четвертого их все еще не было. Это опоздание едва не послужило причиной серьезного происшествия.
Разумеется, я хотел, чтобы особая обработка в присутствии рейхсфюрера прошла без осложнений. Для этого я решил использовать в качестве пациентов непригодных не из своего лагеря. Дело в том, что своих заключенных было труднее без хлопот подвергнуть обработке — назначение крематориев все уже хорошо знали. Поэтому я договорился, чтобы мне доставили из какого-нибудь польского гетто эшелон в две тысячи евреев. Партия прибыла незадолго до полудня, и я разместил заключенных под охраной эсэсовцев и собак в большом внутреннем дворе крематория № 1. Без десяти два евреям объявили, что их поведут в баню. Но рейхсфюрера все не было. Ожидание затянулось, и евреи, измученные нестерпимой духотой, становились все беспокойнее, стали требовать пить, есть, а потом начали метаться с криками по двору.
Пик не потерял хладнокровия. Доложив мне по телефону о происходящем, он подошел к окну крематория и объяснил толпе через переводчика, что в котельной произошла какая-то неполадка, которую сейчас устраняют. В это время прибыл я, велел немедленно принести ведра с водой и дать евреям напиться. Я обещал им раздать хлеб после душа и позвонил Хагеману, чтобы он пришел со своим оркестром заключенных. Через несколько минут музыканты уже были на месте и, расположившись в одном из углов двора, заиграли венские и польские мелодии. Не знаю, успокоила ли евреев музыка или сам факт, что для них играют, усыпил их тревогу, но мало-помалу они утихомирились, перестали метаться и кричать и как будто поверили нам. Я понял, что по прибытии Гиммлера они, не сопротивляясь, спустятся в подземную раздевалку.
Но вот в том, что переход из раздевалки в "душевую" обойдется без хлопот, я не был так уверен. С тех пор как крематории-близнецы были закончены, я несколько раз устраивал репетиции особой обработки. Три или четыре раза я замечал, что при переходе в "душевую" евреи внезапно начинали пятиться назад и их приходилось загонять собаками и прикладами. Те, кто был в хвосте этого человеческого стада, напирали на передних, валя друг друга с ног, топча женщин и детей. И все это сопровождалось ударами и криками.
Было бы, конечно, весьма неприятно, если б подобное происшествие нарушило чинный порядок процедуры при посещении рейхсфюрера. Вначале я уже почти смирился с этим. Я никак не мог понять, чем — разве что смутным инстинктом — можно объяснить их нежелание входить в "душевую". Казалось бы, все здесь предусмотрено для того, чтобы ввести в заблуждение: толстые водопроводные трубы, сточные желоба, многочисленные души. Здесь не было ничего, что могло бы вызывать подозрение.
В конце концов я решил, что в день посещения Гиммлера несколько шарфюреров войдут в "душевую" вместе с евреями и раздадут им мыло. Я распорядился, чтобы переводчик во время раздевания заключенных сообщил им об этом. Я знал, что даже крохотный кусочек мыла был в глазах заключенных неоценимым сокровищем, и рассчитывал на эту приманку.
Хитрость возымела полный успех. Как только прибыл Гиммлер, шарфюреры вошли в толпу с большими картонными коробками. Переводчики объявили через громкоговорители о раздаче мыла, послышался радостный гул, заключенные разделись в рекордное время — и все радостно устремились в газовую камеру".
Джонатан Литтелл. Благоволительницы. М.: Ад Маргинем Пресс. 2019 г.

Родители Джонатана Октобера Лителла придерживались левых взглядов – отсюда и его второе имя – в честь Октябрьской революции. Они одно время даже хотели перебраться в СССР, но выбрали местом жительства Францию. Сначала он писал в жанре научной фантастики, но скоро разочаровался. Его главное произведение – "Благоволительницы", признанные современной классикой, – посвящено раскрытию проблемы нацизма, в частности тому, как человек вовлекается в него, делая себе одно за другим послабления и уговаривая совесть помолчать. Роман написан в стиле мемуаров, которые пишет бывший управляющий фабрики по производству кружев Максимилиан Ауэ. Он наблюдал, как расстреливают евреев в Бабьем Яру, участвовал даже в Сталинградской битве, затем работал в концлагерях и был зачислен в айнзацгруппу. Он занимается и "научной" работой – пытается выяснить, являются ли горские евреи Кавказа "недочеловеками" по нацистской расовой теории. Во время награждения орденом умудряется укусить за нос самого Гитлера – и в сумятице скрывается от неизбежного расстрела. В финале он убивает своего друга – чтобы завладеть его фальшивыми документами и скрыться. А совесть его уже не мучает. Он просто жалеет себя, вовсе не считая, что в том, как сложилась его жизнь, есть его вина. Роман отмечен Гонкуровской премией и Большой премией Французской Академии.
ЦИТАТА:
"В ясном свете лета я размышлял о принятом нами решении, вопиющей идее убить всех евреев, без исключения, молодых или старых, хороших или плохих, уничтожить иудаизм в лице его носителей, решение, получившее название Endlösung, широко теперь известное. Что за прекрасное слово! Кстати, оно не всегда было синонимом «уничтожения»: сначала для евреев требовали völlige Lösung (полного решения) или allgemeine Lösung (общего решения), и в разные периоды под этим понимали исключение из общественной жизни, исключение из экономической жизни и эмиграцию. Постепенно значение приблизилось к бездне преисподней, не изменив при этом само обозначаемое, будто в сердцевине слова всегда жил категоричный смысл, который своей чудовищной массой влек, тащил за собой в черную дыру сознания, к уродливому, противоестественному: в результате мы перешли черту невозврата. Мир еще верит в идеи, понятия, в то, что мысли выражаются словами, но это необязательно так, возможно, существуют только слова и весомость слов. Возможно, мы просто поддаемся словам и их фатальности. Тогда получается, что в нас самих нет ни идей, ни логики, ни согласованности? Только слова нашего необыкновенного языка, только это слово ослепительной красоты — Endlösung? Действительно, как сопротивляться его обольщению? Точно так же нельзя противостоять словам "подчиняться", "служить", слову "закон". Этим, наверное, и объясняется в итоге смысл существования наших Sprachregelungen, достаточно прозрачных для расшифровки (Tarnjargon), но полезных, ведь изощренная абстрактность наших слов и выражений, типа Sonderbehandlung (особое обращение), abtransportiert (ссыльный), entsprechend behandelt (подвергнутых надлежащему обращению), Wohnsitzverlegung (смена места жительства), Executivmassnahmen (меры по уничтожению), весьма помогает тем, кто их употребляет. Эта тенденция характерна и для нашего бюрократического канцелярского языка, burokratisches Amtsdeutsch, как называл его мой коллега Эйхман: в корреспонденции да и в речи преобладали пассивные конструкции: "было решено, что…", "евреи были отправлены под конвоем для проведения специальных мер", "трудная задача была выполнена". Вещи вроде бы совершаются сами по себе, никто ничего и никогда не делал, никто ничего не предпринимал, действие разыгрывается без актеров, что, конечно, ободряет. В некотором роде это даже не действие, ведь особое использование нашим национал-социалистическим языком отдельных слов позволило если не полностью уничтожить глаголы, то, по меньшей мере, отвести им роль ненужных (скорее декоративных) приложений, вот так нам удавалось обойтись без действий. Имелись только грубые факты, реальные вещи, или уже существующие, или ожидающие неизбежного исполнения: Einsatz — "введение в бой", Einbruch — "прорыв обороны", Verwertung — "использование", Entpolonisierung — "изживание поляков", Ausrottung — "истребление", противостоящие Versteppung, "остепнению" Европы ордами большевиков. В отличие от Аттилы, они хотят стереть с лица земли цивилизации, чтобы вырастить траву для своих лошадей. "Man lebt in seiner Sprache", — писал Ганс Йост, один из наших лучших национал-социалистических поэтов: "Человек живет в своем языке". Я уверен, что Фосс не стал бы это отрицать".
Анатолий Кузнецов. Бабий Яр. Роман-документ. М.: АСТ, 2020 г.
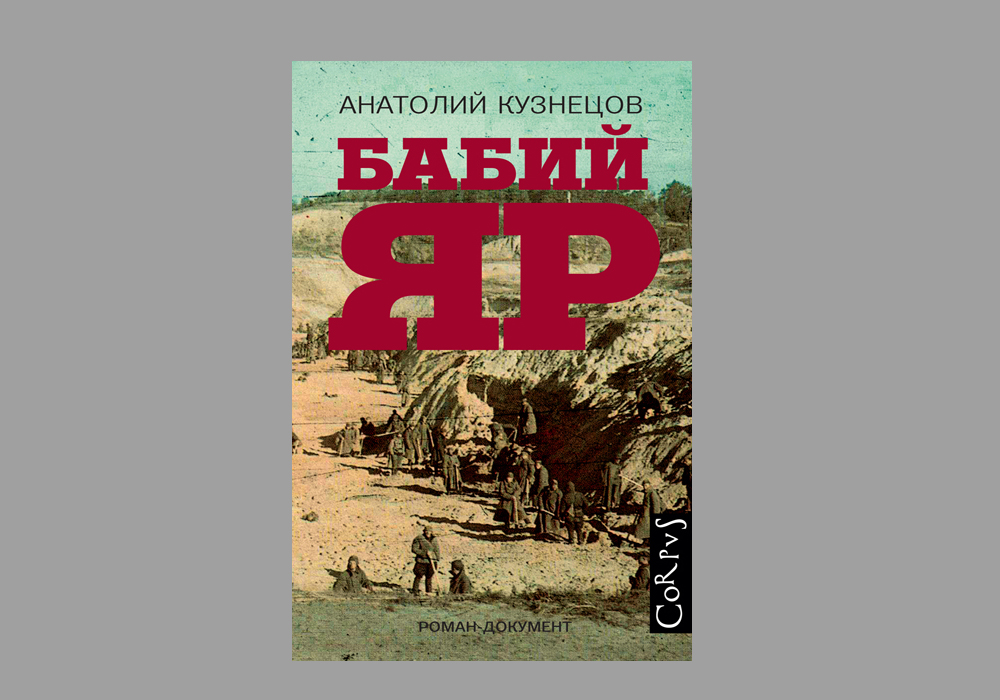
Литературная судьба романа Анатолия Кузнецова "Бабий Яр" складывалась сложно и даже причудливо. Писатель родился в Киеве, его семья не успела эвакуироваться, и два года он провел в оккупированной нацистами столице советской Украины. Зверства немецких захватчиков происходили перед его глазами.
Только после смерти Сталина автор сумел поступить в литературный институт (до этого проживавшим на оккупированных территориях поступить туда было просто невозможно). В 1965 году он закончил роман и принес его в журнал "Юность". Несмотря на относительно мягкое время «оттепели», роман значительно сократили. В сокращенном виде он попал в руки к главному идеологу КПСС Михаилу Суслову – и ему рукопись неожиданно понравилась. Название романа пытались изменить – не всем хотелось вспоминать о трагедии Бабьего Яра и о том, что там разыгралась одна из самых трагических страниц Холокоста. Только в 90-е годы роман был издан в России в полном варианте.
В книге есть сцены страшные, но не меньшей эмоциональной силой обладает и простое описание автором рутины жизни людей под нацистской властью.
ЦИТАТА:
"В восемь часов показались трамваи с немецкими детьми. Многие немцы приехали в Киев с семьями, и вот они отправляли детей на день в Пущу-Водицу, в санаторий, а вечером трамваи везли их обратно. Это были специальные трамваи: спереди на каждом портрет Гитлера, флажки со свастикой и гирлянды из веток.
Я побежал навстречу, чтобы рассмотреть немецких детей. Окна были открыты, дети сидели свободно, хорошо одетые, розовощекие, вели себя шумно - орали, визжали, высовывались из окна, прямо зверинец какой-то. И вдруг прямо мне в лицо попал плевок.
Я не ожидал этого, а они, такие же, как я, мальчишки, в одинаковых рубашках (гитлерюгенд?), харкали, прицеливались и влепливали плевки в меня с каким-то холодным презрением и ненавистью в глазах. Из прицепа плевались девочки. Ничего им не говоря, сидели воспитательницы в мехах (они обожали эти меха, даже летом с ними не расставались). Трамвай и прицеп проплыли мимо меня, ошарашенного, и мимо всей очереди, как две клетки со злобствующими, визжащими обезьянами, и они оплевали очередь.
Пошел я к ручью, и ноги у меня были как ватные. Положил на песок свою коробку с сигаретами, долго умывался, чистил пиджак, и в животе, в груди что-то металлически засосало, словно туда налили кислоты или красноватого люизита".
Лоран Бине. HHhH. М.: Фантом Пресс, 2016 г.

Еще один обладатель Гонкуровской премии – французский прозаик Лоран Бине. Он начал писательскую деятельность на рубеже веков, но успех пришел к нему в 2009 году, после публикации романа HHhH, что расшифровывается как Himmlers Hirn heißt Heydrich – "Голова Гиммлера зовется Гейдрих". Книга переведена уже более чем на тридцать языков.
Роман описывает один из самых известных эпизодов международного сопротивления нацизму – казнь Гейдриха чешскими и словацкими патриотами 27 мая 1942 года. Нацистский палач прожил после смертельного ранения еще несколько дней. Если бы он выжил - в Нюрнберге точно было бы одним повешенным больше, но во сколько жизней обошёлся бы миру еще хоть день его пребывания в нацистском строю – страшно подумать даже на фоне известных нацистских преступлений.
Даже документальное и хронологическое следование по дням через по всем этапам известной ныне и историкам, и широкому кругу читателей "операции Антропоид" - ликвидации Гейдриха, – оставляет автору множество возможностей как для анализа этого исторического события, так и для рассуждений о человеке – в том числе о человеке современном.
ЦИТАТА:
"Пожалуйста, господа…" Франк и Далюге вздрагивают. В коридоре полная тишина, и они уже не знаю сколько времени слоняются тут без дела. Но вот они затаив дыхание входят в больничную палату. Тишина здесь становится еще более давящей. Лина тут, она сидит у постели мужа смертельно бледная, словно окаменевшая. Франк и Далюге на цыпочках подкрадываются к кровати - так, словно боятся разбудить хищника или змею. Но лицо Гейдриха остается бесстрастным. В больничном журнале зарегистрированы время смерти, 4.30 утра, и ее причина, если коротко: "инфекция, связанная с ранением".
…
А 4 июня 1942 года Гитлер за ужином в "Волчьем логове" делает такое заявление:
"Поскольку перед соблазном могут не устоять не только воры, но и те, кто замыслил покушение, такие героические жесты, как езда в открытом, небронированном автомобиле или прогулки по Праге пешком без охраны - просто глупость, и нации это пользы не приносит. И если такой незаменимый человек, как Гейдрих, без нужды ставит свою жизнь под угрозу, то остается только резко осудить такого рода поведение как проявление глупости или чистейшей воды скудоумия. Люди такого политического масштаба, как Гейдрих, должны ясно сознавать, что их подстерегают, словно дичь, и что множество людей замышляют их убить".
Зрелище, при котором сейчас присутствует Геббельс, ему придется наблюдать вплоть до 2 мая 1945 года все чаще и чаще: Гитлер пытается справиться с гневом и говорить нравоучительным тоном, чтобы преподать урок всему свету, но ему это не удается. Гиммлер молча кивает. У него нет привычки возражать своему фюреру, к тому же его душит не меньшая, чем у того, ярость по отношению к чехам, да и по отношению к Гейдриху. Конечно, Гиммлера пугали амбиции его правой руки, но без этой высокопрофессиональной и безжалостной машины, сеющей вокруг террор и смерть, он чувствует себя куда более уязвимым. В лице Гейдриха он потерял не только потенциального соперника, но в значительно большей степени - главный козырь в своей игре. Гейдрих был его трефовым валетом. А ведь история-то всем известна: когда Ланселот покинул Логрию, это стало для идеального королевства началом конца".
Олег Нестеров. Юбка. М.: Ад Маргинем, 2008 г.

Художественное осмысление истории и искусства порой толкает авторов на самые смелые эксперименты. В текстуру романа могут войти как реально существовавшие, так и вымышленные персонажи, великие открытия могут переноситься из страны в страну, революционные перемены в искусстве можно передвигать с континента на континент – и на несколько десятилетий во времени.
Лени Рифеншталь в романе Олега Нестерова – уже любимый режиссер фюрера, но еще не оставила богемные привычки. Ее вдохновляют и захватывают идеи Третьего рейха, масштабные планы перестройки городов – и переустройства мира.
В ведомстве личного архитектора фюрера Альберта Шпеера Лени встречает четверых (ну а как же) молодых инженеров, которые мечтают сделать странную вещь – усилить при помощи электричества звук гитары.
Протеже фюрера Лени добивается создания всех условий для гениальной четверки – они начинают проект "Юбка": ведь захватив при помощи новой музыки умы молодого поколения, можно захватить весь мир. Почему "юбка"? Потому что "юбка" по-немецки Der Rock.
Однако проект ждет катастрофа, как и всех его участников. Как и Гитлера. Как и Германию.
ЦИТАТА:
"Мой фюрер, я не раз была свидетельницей вашего гипнотического влияния на аудиторию. Совсем недавно я случайно увидела похожее воздействие со стороны музыки. Никогда еще до этого – ни в одном театре, ни в одном концертном зале – я подобного не испытывала. И я совершенно не могу понять природу этого явления. Просто четверо играют на гитарах. И поют.
– И где вы это все… испытали?
– В бюро у Шпеера. Эти четверо – архитекторы, работающие над макетом GERMANIA.
Гитлер улыбнулся:
– Вы знаете, насколько я доверяю вам и насколько порой это доверие осложняет жизнь и мне, и вам. Я поражаюсь вашему художественному чутью, а главное – интуиции. К вашим словам я должен отнестись крайне серьезно.
Он о чем-то задумался и вдруг спросил:
– Скажите, а кто-нибудь еще был свидетелем их музыкального гипноза, кроме вас?
– Нет, – спокойно ответила Лени. – Мы друзья, и они зовут на свои сеансы меня одну.
Гитлер встал с кресла и заходил по гостиной.
– Я хотел бы все это увидеть сам. Хотя, боюсь, что это абсолютно неприемлемо для практического использования, – Гитлер стремительно раскручивал нить в нужном направлении. – На моих митингах собирается до полумиллиона людей. Мы даже строим специальный стадион в Нюрнберге на четыреста тысяч участников. Я чувствую, какой огромной силы энергия концентрируется над нами. Гитара же – инструмент, который может убеждать только в салоне.
– Господин Гитлер, сила вашего воздействия ограничена людьми, понимающими немецкий. Мы говорим сейчас о том, что может глобально изменить мир. Что может пройти через все границы и повлиять на людей всей планеты. Надеюсь, мы говорим об одном и том же: мы ведь собираемся менять мир к лучшему. Мой фюрер, на это способна только красота. Этот источник бьет, извините меня, невзирая на партийную принадлежность и расовую чистоту. Если бы вы сейчас узнали, что я еврейка, это что, изменило бы ваше отношение к моим фильмам?
Гитлер поежился.
Она продолжала, теперь это уже звучало совсем как манифест от Лени:
– Наступает эра гитар. Через них только нужно пропустить ток, и тогда они смогут поднимать стадионы. Они сделают то, перед чем бессильно любое оружие. Они завоюют дух людей! – Лени попыталась подобрать новые аргументы. – Скажите, что, по-вашему, привлекает на партийные праздники десятки тысяч юношей и девушек со всех уголков Германии?
– Величайшее чувство товарищества. Такого они нигде больше не смогут испытать. Они – единственная гарантия живого будущего Германии.
– Это же чувство товарищества соберет целое нашествие молодежи с палатками, только теперь – со всей Европы! Представьте: лето, большое зеленое поле, – как, к примеру, в Нюрнберге, большая сцена, музыка с утра до вечера…
– Нет, мне в это сложно поверить. Вы рисуете какую-то утопическую картину. И что, вы всерьез считаете, что эти музыканты, как и я, смогут ездить по городам и собирать полные стадионы? – недоверчиво спросил Гитлер".
Зофья Посмыш. Пассажирка. М. 1960г. См. также Иностранная литература, № 8, 1963. См. также Роман-газета, №18 (318), 1964.

Польская писательница и сценарист Зофья Посмыш с 1942 по 1944 год была узницей концлагерей Освенцим и Равенсбрюк. Она – одна из немногих людей которые не только выжили там, но и дожили о наших дней, сейчас Зофье Посмыш 98 лет.
Повесть написана ею в 1962 году – уже тогда людям казалось, что ужасы войны миновали и давно позади. Но не все человеческая память в состоянии забыть, даже если очень хочется, даже если воспоминания невыносимы.
Однажды Зофья Посмыш во время поездки в Париж услышала резкий крик немецкой туристки. Он был поразительно похож на голос немецкой надзирательницы из концлагеря. Писательница немедленно вообразила картину: как бы она повела себя, как бы поступила, если бы перед ней оказалась та самая надзирательница?
И вот в ее романе на борту океанского лайнера "Гамбург", следующего в Бразилию, оказываются интеллигентного вида, безукоризненно воспитанный дипломат из Западной Германии. Он получил прекрасное назначение, позволяющее ехать первым классом и не считаться с расходами, и рад повторять жене Анне Лизе, что вскоре они заживут на широкую ногу. Ничто не могло, казалось, омрачить прекрасное морское путешествие, даже беседы с ветераном из Америки, который любит поговорить о немецкой душе и о том, как же в Германии могла случиться такая неприятная вещь, как нацизм. И при этом ветеран до сих пор хранит у себя редкий сувенир, приобретенный в Дахау, – сумочку из человеческой кожи…
И вдруг Анна Лиза замечает взгляд пассажирки из каюты номер 45, которая ехала в Америку на антивоенную конференцию. Ее взгляд Анна Лиза видела в том месте, которое ей так хотелось бы забыть: в Освенциме, где проходила эсэсовскую службу и была начальницей на вещевом складе. Она ведь не делала этой польке ничего плохого, наоборот – подкармливала, помогала выжить, была к ней добра. Или сама так считала?
Польская писательница сделала невероятное – будучи сама узницей концлагеря, написала роман от лица надзирательницы, и при этом не пыталась превратить ее в чудовище. Она пыталась понять внутренние движущие силы Анны Лизы – не просто ради оценки, а чтобы спросить саму себя – возможно ли прощение для таких людей? Возможно ли примириться вчерашним палачам и жертвам? А если и возможно – ради чего это стоило бы делать?
ЦИТАТА:
"— Эта женщина… Мне кажется, что я ее знаю… оттуда.
— Откуда? Со склада? Что же тут страшного?
— А то… — она с трудом выговаривала слова, — что это был лагерный склад.
Вальтер все еще не понимал.
— Ну и что же? — спросил он с удивлением. — Работа, как всякая другая.
Тогда она сказала:
— Это была не просто работа. Это была служба. Я… меня направили в отдел лагерей.
Вальтер судорожно глотнул слюну.
— Каких лагерей?
Лиза молчала, и он добавил:
— Были трудовые лагеря, лагеря…
И тут он увидел ее глаза. Они были такие же, как тогда, во время инцидента с собакой. Лиза прошептала:
— Это не то.
Вальтер встал, прошелся несколько раз по каюте и остановился у иллюминатора. Он долго стоял, повернувшись к ней спиной.
— Концлагеря?.. — наконец произнес он. Голос его звучал хрипло. — Ты была в концлагерях? — Он резко повернулся к ней. — Значит, эти женские отряды… просто-напросто СС?! — Лицо его побагровело, казалось, он задыхался: — Эта женщина заключенная?! Говори!
Но Лиза уже овладела собой.
— Нет, не может быть! Мне просто померещилось!
— А вдруг? А если да? — настаивал он.
— Марта? — неуверенно произнесла она.
— Марта, — машинально повторил Вальтер. — Значит?..
Оба замолчали. Он смотрел в ее лицо, такое знакомое. Но сейчас в этом лице появилось нечто ужасающе чужое, что изменило его черты больше, во сто крат больше, чем вчерашняя новая прическа; изменило полностью и бесповоротно.
— Если бы это была Марта… — Лиза запнулась, но тут же с неожиданным спокойствием докончила: — Уж ее-то мне нечего бояться.
— Как прикажешь это понимать?
Лиза приободрилась.
— Бог мой! Я ей сделала столько хорошего. Не раз спасала жизнь. Я была для нее, — с горечью улыбнулась Лиза, — ангелом-хранителем. Этаким… лагерным ангелом-хранителем…
В ожидании ответа она отважилась поднять глаза. Но Вальтер, казалось, ничего не слышал. Он лихорадочно передвигал бутылки в баре. Наконец нашел нужную, наполнил рюмку, залпом осушил ее и сел в кресло, закрыв лицо руками.
— Я была добра к ней, Вальтер. — Голос ее задрожал.
— Ты была добра к ней… — повторил он, как показалось Лизе, с насмешкой.
Она не выдержала.
— Ты не знаешь, ты понятия не имеешь, как трудно было оставаться доброй в том аду!
Вальтер брезгливо поморщился.
— Нельзя ли, — процедил он, — без литературщины?
— Би-Би-Си организовало тогда серию передач, которые начинались словами: "Говорит ад Европы — Освенцим", — как бы оправдываясь, сказала она.
Вальтер даже привскочил.
— Боже мой! Освенцим?
Лиза видела, как на лбу у него выступили крупные капли пота, и не могла выговорить ни слова.
— Освенцим? Именно Освенцим?.. Господи! — И затем бесстрастно, как чиновник, проверяющий анкету, он спросил: — Как ты попала в СС?
Лиза ответила не сразу. Она долго смотрела на него молча, а потом сказала:
— Я верила в Гитлера".
Бернхард Шлинк. Чтец. М.: ООО "Издательская Группа „Азбука-Аттикус“", 2015 г.
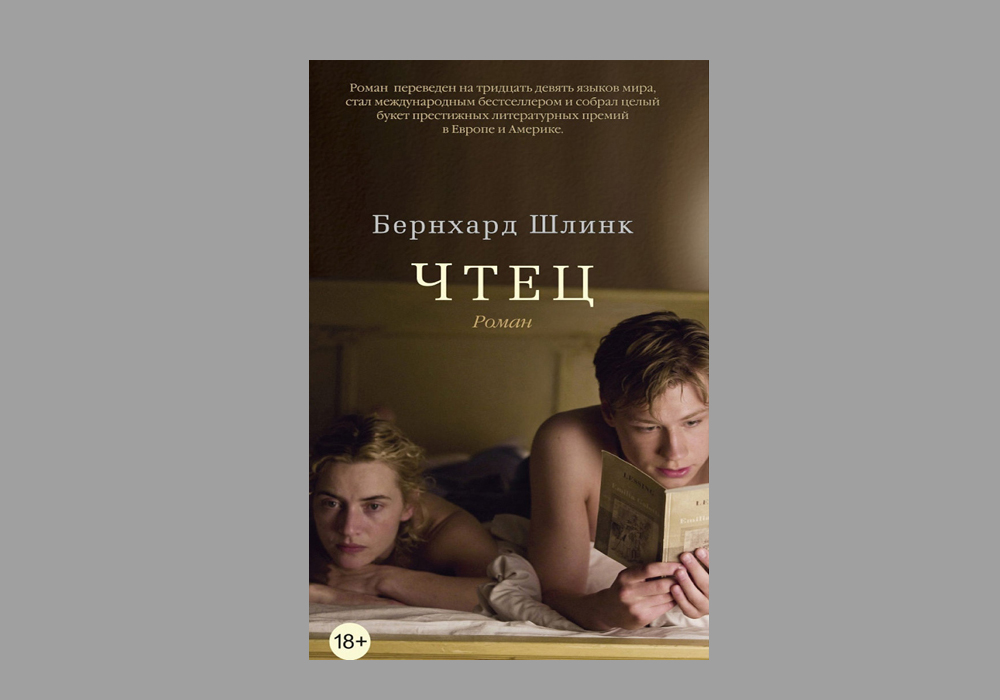
Бернхард Шлинк, прежде чем стать писателем, совершенно состоялся и добился выдающихся результатов как юрист – к 1988 году. Он уже был доктором юридических наук, профессором Боннского университета, признанным специалистом по конституционному праву.
Неожиданно его привлекла писательская стезя. И спустя семь лет Шлинк прямой дорогой пришел в классики – когда вышел его роман "Чтец".
Школьник Михаэль влюбляется в женщину, которая значительно старше его – это и не любовь сперва, а юношеское эротическое влечение к зрелой привлекательной женщине. Однако их отношения становятся все сложнее и сложнее: она просит его читать ей книги, потому что ей очень нравится голос Мальчика. Тайна раскрывается быстро – его возлюбленная не умеет читать. Такие романы не длятся долго – общество этой женщины постепенно стало тяготить Михаэля, а потом она и вовсе загадочно исчезла.
Через некоторое время студент Михаэль узнает Ханну в суде на скамье подсудимых – оказалось, что она была надзирательницей в Освенциме. Она осуждена на пожизненный срок – но на основании якобы написанного ею рапорта. Но Михаэль знает, что Ханна неграмотна и ничего не могла написать!
Роман повествует о трагическом душевном надломе немцев послевоенного поколения, для которых любовь к их родителям, старшим братьям и сестрам отягощена сознанием чудовищных преступлений, которые лежат на их совести, хотя многие неглубокие критики пытались трактовать его "в лоб": "нацизм возможен там, где нет просвещения". Это, по меньшей мере, слишком узкое понимание проблемы.
ЦИТАТА:
- Ты много читаешь?
- Так себе. Лучше, когда тебе читают вслух.
Она поглядела на меня.
- Теперь этого больше не будет, да?
- Почему не будет?
Однако я как-то не представлял себя больше записывающим ей кассеты, встречающимся с ней и читающим ей вслух.
- Меня так обрадовало, что ты научилась читать. И я очень гордился тобой. А какие письма ты мне писала!
Это была правда; я гордился Ханной и радовался тому, что она могла читать и тому, что она писала мне. Но я чувствовал, какими слабыми были моя гордость и моя радость по сравнению с тем, чего должно было стоить Ханне ее обучение чтению и письму, какими скудными были они, если они даже не могли заставить меня ответить ей, навестить ее, поговорить с ней. Я отвел Ханне в своей жизни маленькую нишу, да, именно нишу, которая, без сомнения, была дорога мне, которая мне что-то давала и для которой я что-то делал, но это была всего лишь ниша, а не полноценное место.
Но почему я должен был отводить ей место в своей жизни? Я не хотел мириться с плохой совестью, мучавшей меня при мысли, что я сократил место Ханны до размеров ниши.
- Скажи, а до суда ты когда-нибудь думала о том, о чем потом на нем говорили? Я имею в виду, ты когда-нибудь думала о всем этом, когда мы были вместе, когда я, например, читал тебе?
- Тебя это так волнует?
Но она не стала ждать, пока я отвечу.
- У меня всегда было чувство, что меня все равно никто не понимает, что никто не знает, кто я такая и что меня сюда привело и побудило на тот или иной поступок. И, знаешь, если тебя никто не понимает, то никто не может требовать от тебя отчета. Суд тоже не мог требовать от меня отчета. Но мертвые, они могут. Они понимают. Для этого им совсем не надо было быть свидетелями моих дел, но если они ими и были, то они понимают особенно хорошо. Здесь, в тюрьме, они часто приходили ко мне. Они приходили ко мне каждую ночь, хотела я этого или нет. До суда я еще могла прогнать их, если они хотели прийти.
Она подождала, не скажу ли я что-нибудь на это, но мне ничего не шло на ум. Сначала я хотел сказать, что мне в моей жизни ничего не удается прогнать. Но это было не так; можно прогнать кого-нибудь и тогда, когда ставишь его в нишу.
- Ты женат?
- Был. Мы с Гертрудой давно развелись, и наша дочь живет в интернате; я надеюсь, что она не останется доучиваться там последние годы, а переедет ко мне.
Сейчас я подождал, не скажет ли здесь что-нибудь Ханна или не спросит ли она меня о чем-нибудь. Но она молчала.
- Я приеду за тобой на следующей неделе, хорошо?
- Хорошо.
- Тихо, или можно с музыкой?
- Тихо.
- Что ж, значит, заберу тебя тихо, без музыки и шампанского.
Я встал, и она тоже встала. Мы посмотрели друг на друга. Только что два раза прозвенел звонок, и другие женщины уже ушли внутрь здания. Ее глаза снова ощупали мое лицо. Я обнял ее, но на ощупь она была не той.
- Всего хорошего, парнишка.
- Тебе тоже.
Так мы попрощались друг с другом еще до того, как расстались внутри тюрьмы".
Себастиан Хафнер. История одного немца. Частный человек против тысячелетнего рейха. Санкт-Петербург: Издательство Ивана Лимбаха. 2018 г.
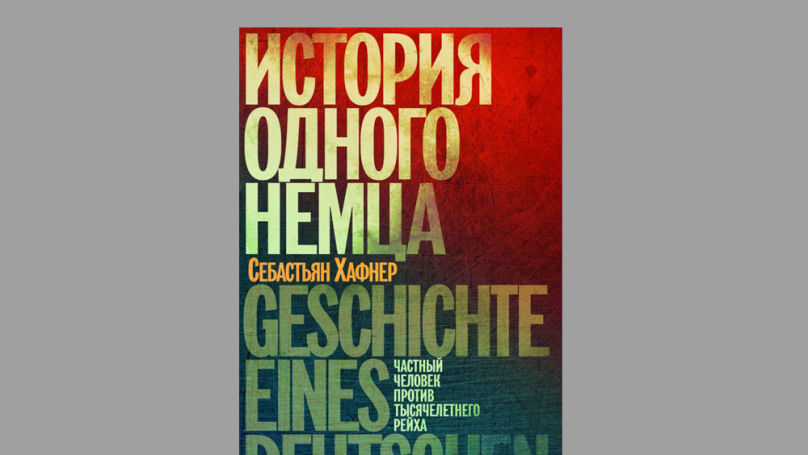
Жизнь Себастиана Хафнера – точнее, Раймунда Претцеля (Хафнер – вынужденно взятый псевдоним) - немецкого интеллигента и интеллектуала, историка, юриста и писателя, полна знаковых совпадений и встреч. Он, например, закончил одну гимназию с Хорстом Весселем, в честь которого написан главный нацистский гимн. От юридической карьеры, впрочем, быстро отказался – нацисты, придя к власти, покончили в Германии с правом как таковым. На решение окончательно повлиял объявленный нацистами 1 апреля 1933 года "день бойкота евреям". Своей политической позиции Хафнер не поменял до конца своих дней. Он на несколько месяцев уехал в Париж, а в 1938 году окончательно, как ему тогда казалось, уехал в эмиграцию, в Лондон.
Там он решил описать жизнь в Германии при нацистах и Гитлере. Однако делать это приходилось крайне осторожно – ведь на родине остался брат, и малейшее упоминание о нем привело бы к его гибели. Ему пришлось писать книгу о выдуманных персонажах. Его отец превратился в ней в чиновника, хотя никогда им не был, жену он и вовсе разделил на двух женских персонажей. Это была вынужденная мера – согласно нацистским законам, за "предательство" несли ответственность не только лица, его совершившие, но и их родственники. А предательством становился сам факт несогласия с нацистскими доктринами.
Автор пытался показать, что именно привело к власти в Германии такую фигуру, как Гитлер, такую партию, как НСДАП. Он осознавал, что бесстрастного осторожного изложения фактов мало для реального вклада в борьбу с нацистами. Хафнер оставил работу над "Историей одного немца" ради книги "Германия. Джекилл и Хайд", где уже напрямую описывал Гитлера как темную сторону германской души, и создал один из самых убедительных портретов фюрера, а в дальнейшем еще глубже и точнее описал его в книге "Некто Гитлер. История одного преступления".
Главный же вопрос первой книги – что может один человек против обезумевшей массы и бесчеловечного государства.
ЦИТАТА:
"В течение четырех военных лет я потерял ощущение мирной жизни, я забыл, какой может быть мирная жизнь. Мои тогдашние воспоминания о довоенном времени полностью поблекли. Я не представлял себе день без фронтовых сводок. Такой день лишил бы меня самого главного удовольствия. Что он мог предложить взамен? Мы шли в школу, нас учили писать и читать, позднее учили истории и латыни, мы играли с друзьями, гуляли со своими родителями, но разве это было подлинным содержанием жизни? Жизни придавало остроту, а каждому дню особую, свойственную только ему, краску то или иное событие на фронте; если шло мощное наступление и газеты помещали пятизначные цифры пленных солдат и список захваченных крепостей, с "огромным количеством стратегических материалов", это был праздник, дававший нескончаемую пищу фантазии; ты жил полной жизнью, как много позже, когда бывал счастливо влюблен. Если же "на Западном фронте" было "без перемен" или если начинался "планомерный, вызванный стратегическими соображениями отход на заранее подготовленные позиции", тогда вся жизнь блекла, игры со сверстниками теряли свою привлекательность, а уроки делались вдвойне скучными.
Каждый день я ходил к полицейскому участку за пару кварталов от нашего дома: там, на черной доске вывешивались фронтовые сводки на несколько часов раньше, чем они появлялись в газетах. Узкий белый листок, усеянный танцующими заглавными буквами. Листок был то короче, то длиннее, а буквы танцевали по милости давно отслужившей свой срок копировальной машины. Мне приходилось вставать на цыпочки и задирать голову, чтобы разобрать напечатанное. Чем я и занимался изо дня в день, самоотверженно и упорно.
Как уже было сказано, я совершенно не представлял себе, какой должна быть послевоенная мирная жизнь, но у меня было четкое представление о том, что такое "окончательная победа". Окончательная победа, великий итог, сумма, неизбежно складывающаяся из множества частных побед, о которых я читал во фронтовых сводках, была для меня приблизительно тем же, чем для набожных христиан является Страшный суд и воскрешение мертвых, а для верующих евреев – пришествие Мессии. Окончательная победа была суммой всех побед, огромной сводкой, в которой цифры, говорящие о захваченных пленных, трофеях и площади завоеванных территорий, стали бы совершенно немыслимыми. А дальше я ничего не мог себе представить. Я ожидал окончательной победы с диким и одновременно боязливым нетерпением: то, что она однажды придет, было неизбежно. Но оставалось загадкой, что может предложить мне жизнь после победы".
Филипп Киндред Дик. Человек в высоком замке. М.: Эксмо, 2021 г.
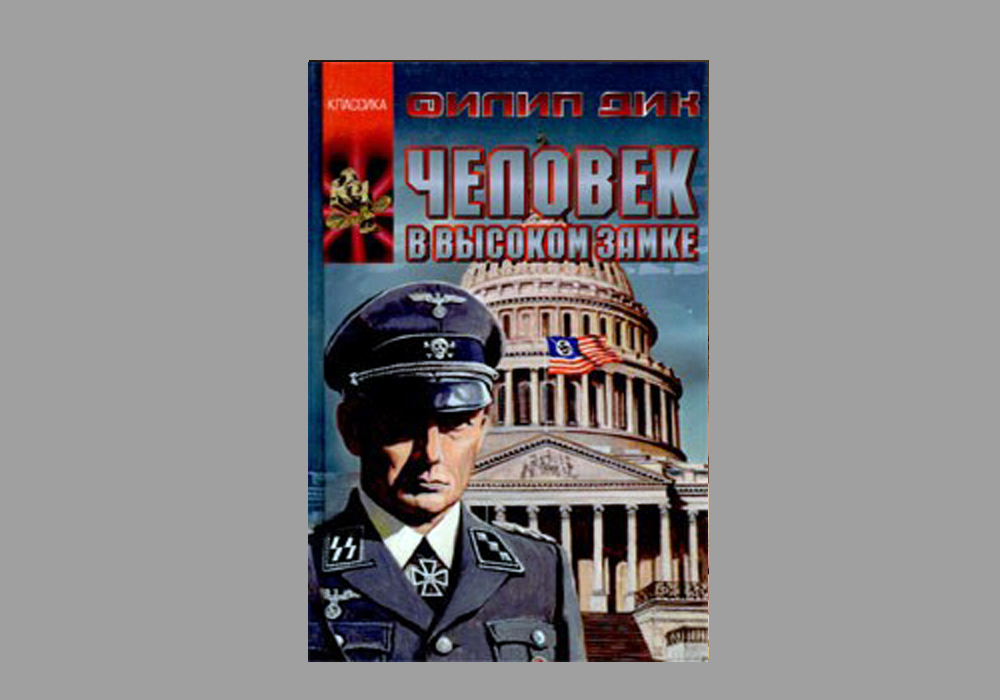
Один из самых ярких литературных экспериментов был поставлен Филиппом Диком в его книге "Человек в высоком замке". Фантаст по своей основной литературной специальности, Дик особенно тщательно занимался фантастикой исторической, пытаясь задавать вопрос "А что было бы, если бы…?"
В романе 1962 года "Человек в высоком замке" это вопрос – а что было бы, если бы во Второй мировой войне победу одержали не союзники, а страны Оси? Перед читателем разворачивается мрачная картина.
Президент Рузвельт убит. Америка не поддерживает ни Великобританию, ни СССР. В результате Советский Союз оккупирован в 1941 году, флот США уничтожен Японией, которая оккупирует Австралию, Новую Зеландию, Китай. Аляску и Дальний Восток СССР. Соединённые Штаты капитулируют в 1947 году, и поделены между Японией и Германией.
В Германии все тоже не так просто: после смерти Гитлера у власти Борман, Геббельс мечтает о ядерной бомбардировке Японии, ему противостоит Гейдрих, мечтающий о высшей власти. Вся экономика подчинена войне, хотя космические корабли уже летят к Луне, Венере и Марсу.
ЦИТАТА:
"И тут его вдруг замутило от бешенства. "Неужели это будет продолжаться вечно? – подумал он. – Сколько лет прошло с войны; казалось, самое главное сделано. И вот теперь – фиаско в Африке и полоумный Зейсс–Инкварт, осуществляющий идиотские замыслы Розенберга. Герр Хоуп прав, издеваясь над нашей марсианской эпопеей. Надо же было придумать – Марс заселен евреями! А ведь мы их наверняка там встретим. Именно двухголовых и в фут ростом. Впрочем, мне на это наплевать, – решил Рейс. – Своих дел по горло. На авантюры вроде посылки айнзатцкоманды за Абендсеном просто нет времени. Хватит с меня возни с немецкими моряками и шифрованными радиограммами, пускай Абендсена ловят ищейки из СД. Им за это деньги платят. А если бы я и провернул это дельце, то еще неизвестно, где бы очутился, – может, в следственном изоляторе генерал–губернатора США или сразу в камере с „Циклоном Б“".
Он тщательно стер карандашную запись, а потом и вовсе вырвал листок и сжег его в глиняной пепельнице.
В дверь постучали, вошел секретарь с пачкой бумаг.
– Речь доктора Геббельса. Полная. – Пфердхоф положил бумаги на стол. – Очень рекомендую ознакомиться. Отличная речь, одна из лучших.
Закурив "Саймон Арц", Рейс углубился в речь доктора Геббельса".
К подобному жанру спекулятивной фантастики относится и следующая книга:
Роберт Харрис. Фатерланд. Торнтон и Сагден, 2000 г.

Художественные достоинства этого триллера невелики. Но замысел заслуживает внимания. 1964 год. Нацистская Германия победила во Второй мировой и делит мир с другой супердержавой - США. Берлин готовится к празднику: 75-летие фюрера и первый за многие годы визит президента США Джозефа Кеннеди. А в это время рядовой следователь криминальной полиции СС расследует убийство отставного чиновника-ветерана, видного партийного деятеля, соратника Гитлера. Нить раскручивается непредсказуемым образом, и шаг за шагом герою открывается то, о чем он и представления не имел. Например, Холокост - и действительно окончательное решение "еврейского вопроса".
ЦИТАТА:
"Итак, садимся, — вздохнул капитан Вегенер. — Несомненно, меня встретят люди из СД. Но вот вопрос-то в чем: какую группировку они будут представлять? Геббельса? Гейдриха? Предположим, что генерал СС Гейдрих еще жив. Хотя пока я входил в корабль и летел, его вполне могли арестовать, застрелить. Когда в подобных государствах меняются правительства, ни за что ручаться нельзя. Все происходит очень быстро. В Германии прахом моментально становятся даже имена, еще вчера боготворимые всеми".
Несколькими минутами позже, когда ракета приземлилась и к ней подвели трап, Вегенер встал и, перекинув плащ через руку, двинулся в толпе возбужденных пассажиров к выходу. Служащие авиакомпании, одетые, как не без удивления обнаружил Вегенер, в точное подобие рейхсмаршальской формы, помогали пассажирам сойти вниз. А там, возле входа в аэропорт, уже стояла небольшая группа чернорубашечников.
"За мной?" Вегенер медленно пошел в их сторону. Из группы, стоявшей чуть поодаль, махали прилетевшим, звали их, улыбались… мужчины, женщины, несколько детей".
Татьяна де Ронэ. Ключ Сары. М.: Азбука, 2021 г.

История гитлеровской оккупации долгие годы была во Франции картой с белыми пятнами – охотно вспоминая о Сопротивлении и проклиная вишистов, французы не любили говорить о том, кто же разыскивал в зоне оккупации евреев и отправлял их в концлагеря. А делали это не эсэсовцы, не гестапо, не айнзацгруппы. Это осуществили доблестные французские полицейские. И доносы на евреев писали совсем не немцы.
Только поколение, родившееся в 60-х, потребовало ответа на вопрос, как случилось, что Французская Республика предала собственных граждан. Одной из тех, кто смело и сурово поставил этот вопрос, стала писательница Татьяна де Ронэ.
Еврейская семья уходит в неизвестность – всех евреев под конвоем ведут куда-то, и они еще не знают куда. Маленького четырехлетнего сына прячут в потайном шкафу, ключ от которого прячет у себя его сестра Сара. Девочка чудом не попадает в лагерь. Вот только к шкафу ей вернуться удастся уже слишком поздно.
Эта история становится известна журналистке Джулии. Она решает узнать подробности. То, что ей становится известно, потрясает ее – и потрясет вас...
ЦИТАТА:
"Поначалу медленно, я начала свое повествование, негромко, приглушенным голосом, время от времени поднимая на него глаза. Пока я говорила, мысли мои устремились к Эдуарду, который сейчас уже, вероятно, сидел в своей элегантной, бледно-розовой гостиной – в комнате на Университетской улице, рассказывая ту же самую историю жене, дочерям, сыну. Облава. Велодром "Вель д'Ив". Концентрационный лагерь. Побег. Маленькая девочка, вернувшаяся из небытия. Мертвый малыш в шкафу. Две семьи, связанные смертью и тайной. Две семьи, которые соединила печаль. Одна часть меня хотела, чтобы человек, сидевший сейчас передо мной, узнал всю правду. Другая – защитить его, уберечь от ужасной и страшной реальности. От горького образа маленькой девочки, на долю которой выпало нечеловеческое страдание. От ее боли и потери. От его боли и потери. Чем дольше я говорила, чем больше подробностей приводила, чем больше вопросов у него возникало, тем сильнее я чувствовала, что мои слова ранят его, как отравленные стрелы.
Закончив, я снова подняла на него глаза. Лицо Уильяма покрылось смертельной бледностью. Он вынул из конверта блокнот и молча протянул мне. Латунный ключ лежал между нами на столе.
Я взяла блокнот, глядя на него и не говоря ни слова. Его глаза умоляли меня продолжать.
Я осторожно раскрыла блокнот. Первое предложение я прочла про себя. А потом стала читать вслух, синхронно переводя с французского на родной язык. Получалось медленно; почерк – наклонный, торопливый, слабый – разобрать было нелегко.
Где ты, мой маленький Мишель? Мой прекрасный Мишель.
Где ты теперь?
Помнишь ли ты меня?
Мишель.
Меня, Сару, свою сестру.
Ту, которая так и не вернулась к тебе.
Ту, которая оставила тебя в запертом шкафу.
Ту, которая думала, что там ты будешь в безопасности.
Прошли годы, но я по-прежнему храню этот ключ.
Ключ от нашего потайного убежища.
Видишь, я хранила его, день за днем прикасаясь к нему, вспоминая тебя.
После того дня, 16 июля 1942 года, я не расставалась с ним.
Никто не знает. Никто ничего не знает о ключе, никто не знает о тебе.
О том, что ты сидел в шкафу.
Никто не знает ни о маме, ни о папе.
Ни о концентрационном лагере".
Анатолий Рыбаков. Тяжелый песок. Санкт-Петербург: Азбука СПб 2014 г.
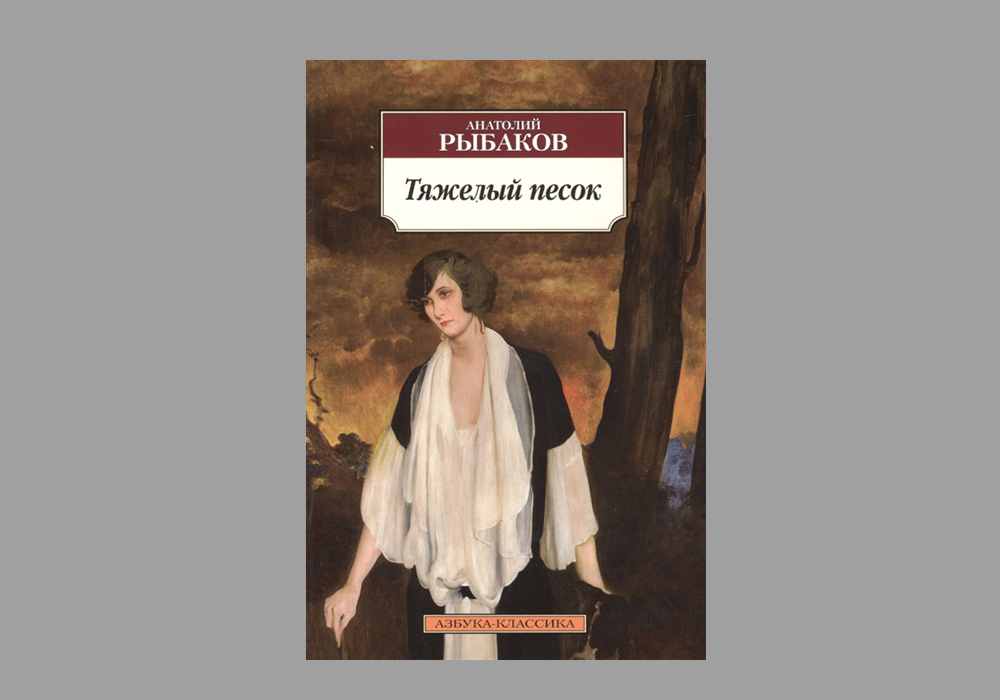
Роман Анатолия Рыбакова - семейная сага о Якове и Рахили Ивановских, охватывающая тридцатилетний период. Первая мировая война, революция, испытания времени и конфликты внутри семейств. Свою сагу автор проецирует на события из Ветхого Завета, имена героев романа взяты оттуда – и отражают их судьбы.
Семья Ивановских переживает все тяжелые годы между войнами – но Холокост им пережить не удастся.
ЦИТАТА:
"Да, горело и истреблялось гетто. Конечно, с этим можно было подождать, ведь гетто никуда уже не уйдет, следовало сразу броситься в погоню. Но ярость и жажда мести пересилили, их выместили на оставшихся. Прибывший на автомашинах взвод СС оцепил мятежное гетто и приступил к его уничтожению здесь, на месте, на этих улицах. Эсэсовцы попытались вломиться в забаррикадированные дома, оттуда раздались выстрелы; они забросали дома гранатами, люди выбегали на улицы, были пущены в ход автоматы, и Песчаная и Госпитальная залились кровью. И все же люди, вооруженные чем попало, пытались прорвать цепь — никому это не удалось… И когда сопротивление было сломлено, патроны у бойцов кончились, и сами бойцы были убиты, и звуки выстрелов перестали заглушаться криками и стонами раненых, тогда каратели ворвались в дома и добили оставшихся там стариков, больных и калек; собаки обнюхивали дворы, эсэсовцы пристреливали спрятавшихся детей. За несколько часов все было кончено, гетто уничтожено, почти две тысячи человек нашли свою могилу в лесу, в яме, на поляне. Но они не сами пошли в лес, не сами легли в яму! Их трупы грузили на машины, везли в лес и там уже сваливали в яму; обитателей гетто пришлось уничтожать в их собственных домах, гетто оказало сопротивление, взяло выкуп за свою жизнь и было стерто с лица земли; гитлеровцы о нем никогда не упоминали: это был их позор, их поражение, — оно не вошло даже в список пятидесяти пяти известных нам гетто. Но оно существовало, оно боролось и погибло с честью".
Василий Гроссман. Жизнь и судьба. Санкт-Петербург, Азбука СПб, 2013 г.

О романе Василия Гроссмана "Жизнь и судьба" невозможно написать кратко – автор сумел в этом романе добиться высочайшей концентрации мыслей, героев и событий, пожалуй, даже более плотной, чем Лев Толстой в "Войне и мире". Это и Сталинградская битва, и советская реальность, и безумие нацизма, и антисемитизм – не только нацистский. Но главные категории, о которых рассуждает автор и к мыслям о которых призывает он читателя – это Добро и Зло. Что есть добро, что есть зло, откуда оно в человеке, и как ему существовать между этими полюсами? Автор не даст читателю простых ответов.
ЦИТАТА:
"Первая половина ХХ века будет отмечена как эпоха великих научных открытий, революций, грандиозных социальных преобразований и двух мировых войн.
Но первая половина ХХ века войдет в историю человечества как эпоха поголовного истребления огромных слоев европейского населения, основанного на социальных и расовых теориях. Современность с понятной скромностью молчит об этом.
Одной из самых удивительных особенностей человеческой натуры, вскрытой в это время, оказалась покорность. Были случаи, когда к месту казни устанавливались огромные очереди и жертвы сами регулировали движение очередей. Были случаи, когда ожидать казни приходилось с утра до поздней ночи, в течение долгого жаркого дня, и матери, знавшие об этом, предусмотрительно захватывали бутылочки с водой и хлеб для детей. Миллионы невинных, чувствуя приближение ареста, заранее готовили сверточки с бельем, полотенчиком, заранее прощались с близкими. Миллионы жили в гигантских лагерях, не только построенных, но и охраняемых ими самими.
И уже не десятки тысяч и даже не десятки миллионов людей, а гигантские массы были покорными свидетелями уничтожения невинных. Но не только покорными свидетелями; когда велели, голосовали за уничтожение, гулом голосов выражали одобрение массовым убийствам. В этой огромной покорности людей открылось нечто неожиданное.
Конечно, было сопротивление, было мужество и упорство обреченных, были восстания, была самопожертвенность, когда для спасения далекого, незнакомого человека другой человек рисковал своей жизнью и жизнью своей семьи. И все же неоспоримой оказалась массовая покорность!
О чем говорит она? О новой черте, внезапно возникшей, появившейся в природе человека? Нет – эта покорность говорит о новой ужасной силе, воздействовавшей на людей. Сверхнасилие тоталитарных социальных систем оказалось способным парализовать на целых континентах человеческий дух.
Человеческая душа, ставшая на службу фашизму, объявляет зловещее, несущее гибель рабство единственным и истинным добром. Не отказываясь от человеческих чувств, душа-предательница объявляет преступления, совершенные фашизмом, высшей формой гуманности, соглашается делить людей на чистых, достойных и на нечистых, недостойных жизни. Страсть к самосохранению выразилась в соглашательстве инстинкта и совести".
Генрих Бёлль. Групповой портрет с дамой. М.: АСТ, 2019 г.

Нобелевский лауреат, давно, еще при жизни ставший классиком немецкий писатель Генрих Бёлль знал и о нацизме, и войне не понаслышке и не из газет. С 1939 года ему пришлось прервать учебу в Университете, и шесть лет воевать в пехоте. Он четырежды был ранен, в конце концов попал в плен и только в 1946 году смог вернуться в Кёльнский университет, но его ждала уже другая судьба - литературная.
И эта судьба возложила на него особую миссию – стать писателем национального возрождения немцев, писателем, помогающим немцам вернуть себе утраченную за двенадцать гитлеровских лет душу, даже если это приходит через тяжкое чувство вины.
Но невозможно только на чувстве вины строить будущее. И автор находит в себе силы и для иронии, и для надежды.
ЦИТАТА:
"Противовоздушная оборона на предприятии Пельцера, согласно неоднократным заявлением уполномоченного по противовоздушной обороне фон ден Дриша, была в "преступном состоянии". Ближайшее более или менее соответствующее инструкциям бомбоубежище находилось в здании конторы кладбища, примерно в двухстах пятидесяти метрах от мастерской. Далее: согласно той же инструкции, в бомбоубежище не имели доступа евреи, русские и поляки. Нетрудно догадаться, что на соблюдении этого параграфа инструкции особенно упорно настаивали Кремп, Ванфт и Шелф, Итак, возник вопрос, куда девать русского в то время, когда с неба сыпались английские и американские бомбы, которые, правда, не были предназначены этому русскому, но ненароком могли в него попасть? Впрочем, никого не беспокоило предположительное попадание бомбы в русского. Кремп выразил эту мысль так: "Одним больше, одним меньше. Какая разница?" (свидетельница Кремер). Проблема заключалась совсем в другом. Кто станет охранять советского военнопленного в то время, когда немцы будут находиться в безопасности (разумеется, только в относительной безопасности)? Разве можно оставить его одного без присмотра, и тем самым дать ему шанс добиться того состояния, о котором все наслышаны, но не каждый испытал, – состояния свободы? Пельцер разрубил этот гордиев узел. Он наотрез отказался ходить в бомбоубежище, заявив, что оно "не дает ни малейшей защиты. Это просто мышеловка"; кстати, у городских властей спорное мнение это неофициально считалось бесспорным. Во время налетов Пельцер сидел у себя в конторе, зато он гарантировал, что советскому военнопленному "никак не удастся удрать на свободу. Я ведь был солдатом и сумею выполнить свой долг".
Курцио Малапарте. Капут. – Ад Маргинем, 2015 г.
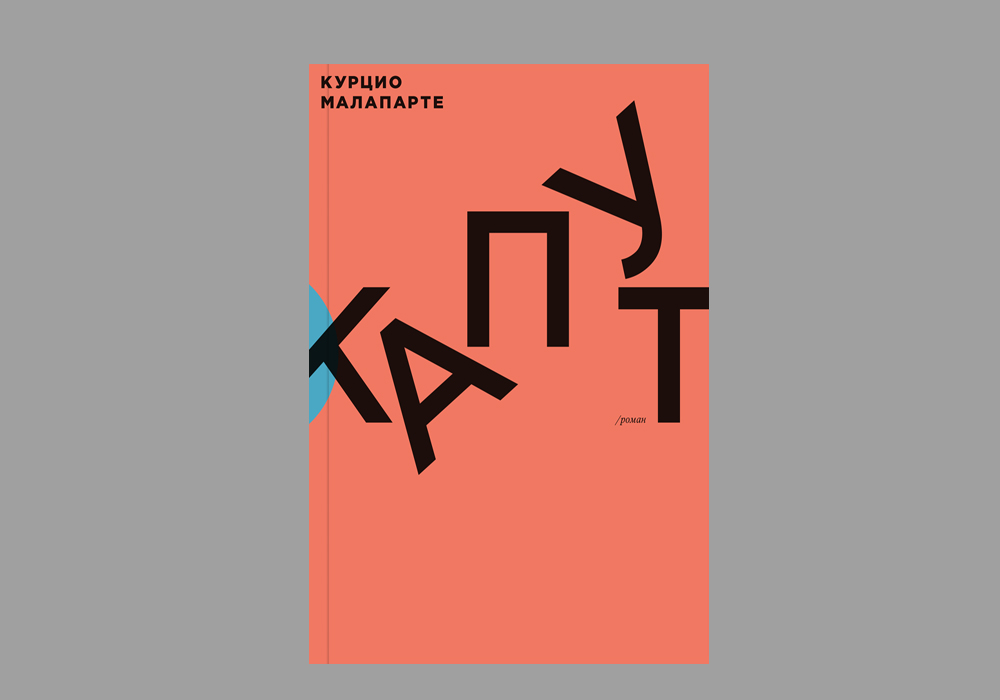
"Малапарте" – псевдоним, означающий "злая доля". На самом деле "неудобного" писателя-итальянца звали Куртом Эрихом Зукертом. В 1941 году, спасаясь от преследования Муссолини, он отправился корреспондентом на Восточный фронт. В результате получилась книга об охваченной войной Европе – от Сталинграда до Хорватии. Восточный и Финский фронт, королевские дома Швеции и Италии, генералитет рейха в оккупированной Польше, еврейские гетто, погромы в Молдавии… Гигантская фреска о фашизме как он есть. Немаловажно, что эта книга-приговор была издана еще в 1944 году и по сей день волнует читателей.
ЦИТАТА:
"Я отправился на вокзал, сел в неапольский поезд, я хотел тоже возвратиться к себе. Поезд был переполнен беглецами, стариками, женщинами, детьми, офицерами, солдатами, священниками, агентами полиции. На крышах вагонов ехали солдаты: одни — вооруженные, другие — без оружия, одни — в форме, оборванные, грязные и печальные, другие — полуголые, отталкивающие и веселые, и эти, последние, были дезертиры, которые возвращались к себе или бежали куда глаза глядят, смеясь и распевая песни, как будто они были поражены и возбуждены каким-то огромным, каким-то удивительным страхом.
Все бежали от войны, от голода, от заразы, руин, террора и смерти. Все бежали от войны, от немцев, бомбардировок, нищеты, страха; все бежали в Неаполь, навстречу войне, немцам, бомбардировкам, нищете, страху, к убежищам, полным нечистот, экскрементов, людей изголодавшихся, изнуренных, отупевших. Все бежали от безнадежности, несчастной и удивительной безнадежности проигранной войны, все бежали навстречу надежде окончания голода, окончания страха, окончания войны, навстречу несчастной и удивительной надежде проигранной войны. Все бежали от Италии — двигались навстречу к Италии".