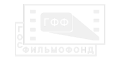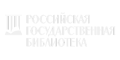Продолжаем разговор с историком, заместителем директора департамента науки и образования Российского военно-исторического общества, доцентом Кафедры отечественной истории МГПУ Константином Пахалюком – одним из авторов и составителей книги "Треблинка. Исследования. Воспоминания. Документы". Проект "Нюрнберг. Начало мира" опубликовал несколько глав из этого сборника, и теперь предлагаем вам вторую часть большого и важного интервью: как осмыслить открывшийся масштаб бесчеловечности, можно ли вынести из чрезвычайных событий уроки для мирной жизни?
Первую часть читайте здесь: ссылка
- Цитата из книги: "Для экипажей поездов, как правило, поляков, также не было секретом, кого и для чего они перевозят. Машинист Хенрик Гавковски в интервью К. Ланцману вспоминал, что крики людей были хорошо слышны, это производило удручающее впечатление, а потому в качестве бонуса немцы выдавали машинистам водку". "Для утилизации пепла с весны 1943 г. и далее в течение года регулярно привлекались местные жители, которые рассыпали его по полям, а также по дороге, идущей в трудовой лагерь Треблинка". Как все эти соучастники относились к тому, что делали? Раскаивались ли потом?

- Есть отдельные редкие случаи, когда коллаборационисты, те же вахманы, либо убегали, либо даже пытались покончить с собой. Но как правило, если речь идет о травниковцах, то в абсолютном большинстве никакого раскаяния они не проявляли. С поляками несколько сложнее. Если мы посмотрим тот же фильм "Шоа" Клода Ланцмана, когда он проезжает по местам лагерей смерти и общается с жителями окрестных деревень, помнивших те годы, то для них это, конечно, тяжелая история, но сопричастность преступлениям – вовсе не то, что их заботит. Естественно, в условиях жестокого оккупационного террора было бы идеалистичным требовать от простого человека героизма, но даже в оккупации есть выбор: брать или не брать еврейские вещи. Жить или не жить в оставшихся еврейских домах. Зарабатывать на бедах другого или нет. Равным образом, как и после войны: осуждать ли тех, кто брал? Присваивал чужие дома? Зарабатывал? Ответы очевидны. И отсутствие послевоенной рефлексии на эту тему весьма показательно.
У того же Ланцмана можно увидеть того самого машиниста, который подтверждает, что, да, слышал, как стучали в вагонах, и да, брал водку. Сама нацистская система предполагала такое соучастие. При этом многим отводилась роль не непосредственных убийц. В условиях обязательной трудовой повинности отказ мог вызвать весьма печальные последствия вроде заключения в концлагерь и направления на тяжелые работы. Человек стоял перед выбором. Ужасным выбором. При взвешивании многие соглашались на роль соучастников, но не жертв.
Признать же свою ответственность годы спустя мешает, думаю, неспособность сочувствовать страданию других. И здесь нет ничего удивительного, особенно для человека традиционной, патриархальной культуры. Сострадание – это скорее социальный навык, связанный с эпохой модерна, то, что вырабатывается в условиях культуры модерна. Для этого навыка необходима определенная эмоциональная чуткость, а она не рождается и не заложена в человеке при рождении, она должна развиваться.
У нас в сборнике есть протоколы узников Треблинки-1, трудового лагеря. Например, Ванда Павловская очень любопытно рассказывает о том, как там оказалась. Решили с сестрой, мол, посмотреть, что там происходит, на всякий случай взяли с собой хлеба, пришли, а там одни евреи, подошли из лесу с тыльной стороны, за проволокой увидели человек 20, которые корчевали пни. Но в 1943 году местные жители уже никак не могли не знать, что происходит в лагере. Запах трупов и костров распространялся повсюду. Соответственно, мы с вами понимаем, что они пошли не удовлетворять любопытство, а торговать, узникам хлеб продавать, и их на этом повязали.
И здесь есть важное противоречие, которое мешает однозначным оценкам. С одной стороны, факт участия в коррупции и обогащения за счет приговоренных к смерти, а с другой, эта меновая торговля облегчала положение тех узников, которые в ней участвовали. С тем же противоречием мы сталкиваемся, когда говорим о самом лагере. Вилленберг описал, как зимой 1943 года перестали прибывать поезда с депортируемыми, и узники начали голодать. Когда прибыл первый эшелон из Болгарии, все понимали, что там смертники, но радовались, потому что в чемоданах депортируемых были продукты.

Из протокола допроса Казимира Скаржинского о строительстве и функционировании трудового лагеря Треблинка и убийстве евреев в лагере смерти. Деревня Вулька-Дольна, 24 сентября 1944 г.
"В июле месяце 1943 года эшелон остановился у деревни Вулька. Из всех вагонов были слышны душераздирающие крики "Воды!". Население деревни пыталось передать воду, но вахманы открыли стрельбу. В это время находившиеся в вагонах люди — мужчины, женщины и дети — стали ломать стены вагонов и выпрыгивать из вагонов. Вахманы подняли страшную стрельбу по беззащитным, умирающим от жажды людям. 100 человек было в тот день убито. Из вагонов, кроме того, выбросили 4 трупа детей, умерших от удушья, потому что никаких следов огнестрельного ранения не было. Вахманы стреляли разрывными пулями. Это стало ясно по характеру ранений, по вызванным этими пулями значительным разрывам тканей. В нашем селе все 100 убитых евреев были похоронены местным населением дер[евни] Вулька. В течении целого года над лагерем были клубы дыма, издали на большом расстоянии видно было несколько огромных костров. Мы, жители Вульки, в течении этого года почти не дышали свежим воздухом. Трупный смрад (нрзб) запахом горящего человеческого мяса. Периодически, через каждые 3–4 дня, эшелон от 3 до 20 вагонов вывозил пепел в различные (нрзб) вблизи и вдали от лагеря. Мне лично часто приходилось развозить, по приказанию немцев, этот пепел из мест его выгрузки из эшелонов по полям и по дорогам. Даже сейчас, после того как прошел год с момента прекращения деятельности этой дьявольской фабрики смерти, на всех ближайших к лагерю дорогах можно увидеть огромные массы пепла".
- Очень многие люди, когда рядом с ними происходит зло, пытаются самоустраниться. Мы говорим сейчас о чрезвычайной ситуации, когда традиционные подходы к морали, практикам поведения отменяются. Вы помните пример из книги о людях, которые были рядом с поездом и видели, как вахманы женщине отрубают руку с деньгами или играют ребенком, как мячом. Но точно так же давайте вспомним, что в наши дни мать скопинского маньяка была осведомлена, что в подвале ее сына находятся две девочки, которых он на протяжении многих лет насиловал. Однако даже после ареста сына она утверждала, что его наказали ни за что, что он не виноват, а то были проститутки, которым так и надо. Мне кажется, здесь уместна параллель, и мы выходим на универсальные закономерности.

Я буквально недавно прочитал последовательно две книги воспоминаний. Первая – венгерской еврейки Эдит Эгер. Она была узницей Аушвица, пережила марш смерти, вернулась после войны, вышла замуж, с мужем бежала от советской власти и оказалась в США, где стала известным профессором психологии. До сих пор жива и написала книгу "Выбор". А вторая – той самой Кати Мартыновой, которая четыре года была узницей скопинского маньяка. И между этими воспоминаниями есть много структурных параллелей. Сходств даже больше, чем различий. В обоих случаях мы имеем дело с молодыми девушками, попавшими в чрезвычайные ситуации (хотя, да, в одном случае мы говорим про государственный террор, в другом – про отдельного преступника). У обеих мучители – Менгеле и маньяк – вызывали ненависть, но они схоже рефлексируют об их мотивах, при этом утверждая, что внутренне, духовно, они, жертвы, были куда более свободны, нежели мучители. Они одинаково говорят о практиках выживания, с помощью которых пытались сохранить себя, – воспоминаниях о семье, о бытовых и рутинных вещах, обращении к Богу. Одинаково после освобождения не могут рассказывать о пережитом опыте. А потом для обеих же становится важной идея донести свою историю до других. Донести ее как руководство для тех, кто может оказаться в подобном положении, как свидетельство возможности выбора, самосохранения и сопротивления даже в таких условиях. Это указывает на то, что чрезвычайный опыт, порожденный концлагерями, уникален в плане историческом, но не в контексте других чрезвычайных условий, когда ваша личность, ваша субъективность, формируемая культурными, социальными, юридическими системами, вдруг отменяется. И вы больше не личность, а просто голое тело, претерпевающее различные воздействия.
Опыты жизни в чрезвычайной ситуации, сопротивления ей, а затем преодоления травмы – вот что можно вынести из этих историй.
Эти опыты непонятны и невообразимы в нормальной жизни, но собственно "нормальность" и не мыслима без понимания "чрезвычайности".
- То есть это истории, которые, как ни кощунственно звучит, должны некоторым образом вдохновить нас?
- Если мы говорим про стратегии личного поведения – да. Если мы вглядываемся в прошлое с целью понимания мира как такового – не совсем. На мой взгляд, здесь нужна осторожность. Говоря о военной эпохе, мы сегодня пытаемся видеть в ней примеры для подражания. Здесь есть проблема. Что бы ни говорили мы о Второй мировой войне, это эпоха чрезвычайная. И какие бы образцы мы для себя ни выбирали в ней, это все же образцы поведения для чрезвычайных ситуаций, не для простого мирного времени. Героизм такого порядка, при всем его величии, неприменим в мирное время. Многочисленные героические истории, на которых сегодня воспитывают в школе, могут подготовить к ситуации войны, "если завтра война, если завтра в поход". Но они одни недостаточны для того, чтобы сформировать ориентиры для поведения в мирном, нормальном (!) обществе, особенно столь динамичном как сегодняшнее. И точно так же этическое осмысление событий Холокоста, обсуждение проблем причастности ко Злу, напрямую не переносимо в наше время, точнее – в мирную жизнь, иначе можно скатиться до компаний "моральной озабоченности". Вот почему отдельные проявления "новой этики", отчасти взращенной на дискуссиях о Холокосте, начинают напоминать "партийные собрания" более нам знакомой эпохи. Та же самая проблема возникает тогда, когда мы слишком много всматриваемся в военную историю Великой Отечественной войны и пытается на этой основе вообразить, каким должно быть нормальное общество, нормальная политика, нормальная власть или нормальный правитель. Это, увы, распространенный, но ошибочный путь. Подобное социальное воображение будет вести – да и ведет – лишь к поддержанию чувства чрезвычайности.
Повторю, я не говорю о ненужности истории, а призываю на основе изучения исторического материала поставить другой вопрос – вопрос о соотношении чрезвычайного и нормального. Потому что производство нормальности – этической, социальной, культурной, политической – сегодня проблема номер один. Как в глобальном масштабе, так и в самой России. Еще философ Агамбен подметил, что производство "чрезвычайных ситуаций" - одна из ключевых управленческих практик современного мира. Причем в пример он приводил западные демократии. Но и мы сейчас живем в обществе, где чрезвычайного (пусть совершенно разных мастей и типов) куда больше, нежели нормального. Весьма тонкий наблюдатель Глеб Павловский вообще считает порождение чрезвычайного сутью современной России. Но изучать диалектику чрезвычайного/нормального в современном мире сложно, а вот начать это делать с исторических примеров, причем крайних по содержанию, легче. А потому, вглядываясь в историю чрезвычайных ситуаций, пусть даже предельных и не имеющих прямого отношения к нам сегодня, мы можем попытаться разобраться в том, как чрезвычайное вообще функционирует. А следовательно – как функционирует нормальность. Но результаты таких суждений будут лежать в прошлом, и они не могут быть просто взяты и перемещены в наши дни. Так, история нацистских преступлений – это в том числе история соотношения человека и преступной системы, порождающей горы трупов и захватывающей народы. Все же в начале третьего десятилетия XXI века абсолютное большинство населения земли живет в тех политических системах, которые преступными (особенно настолько преступными, как нацистская) назвать нельзя. А значит, нам все же надо учиться жить собственной головой.

Из протокола допроса Гени Марчинякувны о строительстве и функционировании лагеря смерти Треблинка. Деревня Косув-Ляцки, 21 сентября 1944 г.:
"Один еврей из Венгрува, фамилии его не знаю, мальчик лет 17, брюнет с явными следами истощения, не выдержал этих побоев и упал без сознания. Комендант, фамилии его не запомнила, потому что он был в лагере только в течении двух строительных месяцев — июнь — июль, стоял возле него до тех пор, пока он не пришел в сознание. И при всех в знак "наказания", обессиленному, он приказал ему спускаться в колодец за опущенным туда кем-то ведром. Юноша спустился в колодец и оборвался. С трудом его оттуда вынули и как "провинившегося" по приказанию коменданта его отвели в лес и там расстреляли".
- Насколько вообще возможно судить прошлое?
- Любая общественная, то есть неакадемическая, дискуссия о прошлом – это прежде всего дискуссия о ценностях, в центре которой завуалированные моральные суждения. Когда мы обсуждаем героизм, мы выносим моральное суждение. Когда говорим о предателях – тоже. Памятники, мемориальные доски, Бессмертный полк – аналогично. Мы уже давно встали на этот путь, а потому вопрос не в том, чтобы на каких-то моментах вдруг начинать молчать. Сказать "это сложно" значит отказаться мыслить. Наоборот, нужно учиться вступать с прошлым в диалог. Причем публичный.
Читайте также
- Легко рассуждать о прошлом, если вы знаете итог…
- Да. Но послезнание – это еще и преимущество. Вот, например, ученые пишут, что сегодня трагедии Второй мировой, особенно за рубежом, воспринимаются сквозь призму трагического нарратива. Что это значит? Больше говорят о трагедиях? Совершенно нет. Трагедия здесь отсылает к особому типу восприятия, напоминающему одноименный литературный жанр, когда вы видите, что что-то идет не так, и через сопереживание главному герою достигаете катарсиса, очищения своих чувств. В случае осмысления истории "через трагический нарратив", вы задаете вопросы себе: не повторяете ли вы путь главного героя? Не совершаете ли тех же ошибок? А сама возможность подобного восприятия существует лишь ввиду наличия этого послезнания.
- В таком случае неизбежно и искушение не просто рассуждать, но – судить. И если какие-то факты безусловно и однозначно заслуживают суда и осуждения, то другие, более спорные (скажем, причастность молчавшего обывателя или очевидно мягкие решения судей впоследствии) повергают в растерянность. Какой мерой мерить?
- Вслед за Ханной Арендт я бы предложил разделить вину и ответственность. Вина – это вопрос юридический, она сопряжена с судебными процедурами и правом. Ответственность – вопрос политический, связанный с тем, что человек или группа лиц, или даже целая нация, разделяет то, чему аплодирует, поддерживает, за кого голосует или кого избирает. Если рядом с вами избивают человека, то вы не виновны (юридически), но самоустранившись – становитесь ответственными (морально). То же самое и политически. Мы не можем быть виноваты в том, что делают от нашего лица политики, но мы несем за это ответственность. Даже если не аплодируем, а просто молчим и присутствуем рядом.
И этот вывод, очень жесткий и неприятный, вынесен, в том числе из истории нацистских преступлений. Естественно, достаточно сложно прописать, что нужно делать, если преступления совершены, трупы или пепел от них – в наличии, а вы лично не убивали, но были рядом. Мертвых уже не вернуть, вечно посыпать голову пеплом невозможно, но просто перешагнуть и оставить прошлое в истории тоже неэтично и в перспективе опасно. Причем далеко не все готовы, как тот же Оскар Грёнинг, бухгалтер из Аушвица, публично признавать собственную ответственность за преступление. Но именно для этого и нужен разговор о нацистах и обоснование бескомпромиссности в наказании преступников. Даже если вам сто лет, вас все равно могут рано или поздно привлечь к ответственности для охлаждения уже современных горячих голов. И, конечно, если не ставить эти вопросы, мало кто будет готов морально оценивать себя.
В принципе жить в соответствии с моральными нормами и выносить моральные суждения, а также рефлексировать о моральной составляющей своих поступков – это очень большой труд. Тем более если говорить об ответственности мирного времени. Об ответственности вовсе не за массовые убийства. Но повторюсь, обсуждение вины и ответственности – это именно дискуссия, умение говорить и думать, это культура мышления и публичного обсуждения, а не свод готовых правил. Никакие "уроки" и "конспекты" из истории нацистских преступлений на практике невозможны и по сути не нужны, если они превращаются в формулы для заучивания. "Знать уроки истории" – опасная установка, мешающая дискуссии, диалогу с прошлым и в конечном счете моральной рефлексии: память - это процесс, это рассуждение.
- Цитата из книги: "Среди прочего она приводит случай, когда поляк в первой половине 1943 г. задержал молодую женщину, бежавшую с поезда в Треблинку. Он передал ее в руки немцев, и она была расстреляна. На суде в 1951 г. он заявил, будто не видел ничего плохого в своем поступке, поскольку якобы не мог предугадать таких последствий. Суд оправдал его". Какие аргументы в подобных случаях приводили судьи – если вообще приводили?
- Эту информацию я почерпнул из вторичного источника, научной статьи, но совершенно очевидно, что не знать о последствиях такие люди не могли. То, что немцы расстреливают и убивают евреев, было общеизвестно. Отрицание в данном случае – не более чем лицемерие. Потенциальная логика суда в принципе понятна – в условиях эвакуации человек подчиняется приказам и правилам, установленным оккупационной властью. Но, с другой стороны, никто не мешал поляку пройти мимо бежавшего еврея и закрыть глаза. Точно так же, как староста деревни Петрищево мог просто выгнать Зою, но почему-то донес о ней немцам. Он что, не понимал, что с ней будет? Понимал. А это уже дает нам возможность осознать, в каком представлении о реалиях он жил – даже находясь в четырех часах, по современным меркам, езды от Москвы, он уже считал тогда, осенью 1941 года, что победа будет за немцами. Он хотел выслужиться перед новыми властями. Точно так же и упомянутый выше поляк не видел ничего плохого в выдаче беглых евреев в тех реалиях.

Из протокола допроса Вольфа Шейнберга о зверствах немцев в трудовом лагере Треблинка, 22 сентября 1944 г.:
"Наиболее хорошо мне запомнились факты истребления заключенных, так:
1. 9 ноября 1942 г[ода] шесть заключенных с одним вахманом пошли в лес на работу, где, воспользовавшись тем, что охранял их только один человек, убили этого вахмана, взяли его винтовку и скрылись. Когда об этом узнали в лагере, то отобрали из числа заключенных 110 человек, отвели их за проволочную загородку, затем 9 эсэсовцев и 100 вахманов, взяв в руки лопаты, топоры, палки, ножи, кто чем любил убивать, зашли так же за перегородку и начали ужасное избиение беззащитных людей. Заключенных били палками, рубили на части топорами и лопатами, резали ножами. Вся земля кругом была залита кровью, кругом валялись куски мяса и человеческих внутренностей, слышно было, как от ударов ломались кости, на земле местами еще шевелились бесформенные кучи человеческого мяса. Душераздирающие крики стояли над лагерем, которые не могла заглушить песня, которую пели эсэсовцы и вахманы в момент истребления людей. Я помню несколько слов из этой песни, в переводе на русский язык они значили примерно так: "Пусть еврейская кровь стекает по ножу". Когда избиение закончилось, то трудно было распознать людей. Это были просто куски мяса. А эсэсовцы и вахманы, с ног до головы залитые человеческой кровью, самодовольно улыбались.
2. Неоднократно я был очевидцем массового расстрела заключенных пьяными эсэсовцами и вахманами, и руководил этим гауптштурмфюрер фон Эйпен, когда пьяная орава подходила к бараку, где отдыхали заключенные, раскрывали дверь и открывали беспорядочную стрельбу в людей, убивали при этом 50–100 человек. Это я сам видел раза 3.
3. В июне 1943 г[ода] фон Эйпен привез из Варшавы около 1500 еврейских женщин, из числа которых было отобрано 30 наиболее красивых, а с остальных сняли ценные вещи и всех отправили в лагерь № 2, где и истребили в "бане". Оставленных у себя 30 евреек фон Эйпен раздал эсэсовцам, и целую неделю продолжались пьянки и насилования и издевательства над женщинами и девушками, после чего их всех убили.
4. Однажды я был свидетелем, как унтершафтфюрер Шварц и Прейфи поспорили о том, что Прейфи на расстоянии 50 м[етров] попадет человеку в сердце. Для этого они вышли на улицу, где работали заключенные, и стали ждать, когда кто-либо из рабочих повернется к ним грудью, и когда один молодой еврей во время работы повернулся, Прейфи выстрелом из пистолета убил его. Или другой случай: однажды рабочие после обеда шли на работу. Один пожилой больной еврей подошел к Прейфи и попросил освободить его от работы до утра. На что Прейфи, улыбаясь, сказал: "Ты слабый, дай мне лопату", и, взяв у еврея лопату, сильным ударом ее разрубил заключенному голову до самой шеи. В январе 1943 г[ода] однажды Прейфи заметил, что один заключенный после обеда, идя на работу, шевелил челюстями. Прейфи подошел к заключенному и сказал: "Что ты ешь, открой рот", и когда заключенный это сделал, Прейфи выстрелил ему в рот. Частыми забавами Прейфи было и другое. Окно его комнаты выходило в сторону, где работали заключенные, и когда те во время работы сходились группой, Прейфи брал автомат и производил из окна длинную очередь, убивая при этом иногда по несколько десятков людей.
5. В середине августа 19432 [года] во время очередной попойки фон Эйпен решил покататься верхом на лошади и посадил к себе на колени своего 4-летнего сына, которого в этот день привезли к нему в лагерь, поехал по лагерю. В это время с работы возвращалась большая группа женщин. Увидев их, фон Эйпен разогнал коня и врезался в группу женщин и стал их давить, и задавил больше 10 женщин, кроме этого, несколько десятков женщин, пытавшихся бежать в сторону, застрелили вахманы. Далее, 5 мая 1943 г[ода] фон Эйпен устроил у себя на квартире пьянку, куда потребовал одну красивую женщину и известного польского пианиста композитора Кагана, который был заключен в лагере. Утром Каган и женщина были убиты, чтоб не могли рассказать, что делалось на квартире у фон Эйпена. Это не единичные случаи истребления евреев, а система планомерного уничтожения еврейского населения".

- Цитата из книги: "Я твердо знаю, что за время моей службы в Треблинском лагере смерти все до единого вахманы участвовали в расстрелах, избиениях, удушении людей в газовых камерах, ибо это было нашим повседневным обязательным делом, а людей уничтожалось так много, что увильнуть от этого было невозможно". Очевидно, что подавляющее большинство эсэсовцев и вахманов, ежедневно мучивших и убивавших, - садисты-социопаты. Как вам кажется, руководство "в верхах" отдавало себе отчет в том, что Эберль* и подобные ему – садисты? Это было осознанное использование патологического садиста? Или садизм стал рамкой нормы? Существовали ли какие-то внутренние циркуляры, хотя бы на бумаге призванные регулировать "необязательное" насилие, предшествующее убийству? Были ли хоть какие-то прецеденты пусть мягких, но все-таки наказаний за "превышение полномочий"? Хотя бы на бумаге, для видимости?
(*Ирмфрид Эберль – первый комендант Треблинки, врач-психиатр, руководитель Центра эвтаназии в рамках программы массового уничтожения Aktion T4. При тестировании "газаций" собственноручно открывал кран трубы, подающей угарный газ в камеру. Был известен предельной жестокостью. Впоследствии свидетели-сотрудники цитировали его мечту "загазировать Бога и весь мир")
- Если мы говорим про обычный концлагерь, то на любое наказание узников надо было формально получить согласование руководства отдела D (инспекция концлагерей). Естественно, этого не было, или согласовывали задним числом. Треблинка, как и Белжец, как и Собибор, не относилась к концлагерям: это был особый мир, где эти правила даже формально не действовали. Нужно понимать, что в СС сам по себе садизм никогда не поощрялся, идеальный образ эсэсовца – это человек с холодным сердцем, здравой головой и чистыми руками, который честно выполняет возложенную на него грязную работу. Но это некий идеал. Отчасти бюрократический и продвигаемый Гиммлером. В то время как в практике лагерей уничтожения мы видим целый набор стратегий поведения.

Это откровенные садисты, как заместитель коменданта Курт Франц. Были такие, как комендант Франц Штангль, которые пытались самоустраниться, и им действительно в известной степени это удавалось. Были, наоборот, такие, как обершарфюрер Франц Сухомель, которые, скорее всего, не испытывали именно садистского удовольствия, но в принципе были не против участвовать в происходящем и прикрывались добродетелями – добродетельный сын, добродетельный воин, добродетельный исполнитель. Вообще, и мне кажется это очень важным, история нацистских концлагерей знает очень много примеров, когда добродетель служит прикрытием аморального поведения. За добродетельностью легко спрятать моральный коллапс и причастность ко злу. Естественно, как бы ни вели себя служащие лагерей уничтожения, вряд ли что-то может быть реальным оправданием. Они в любом случае знали и понимали, что делали. Внутренние чувства этих убийц интересны с научной точки зрения, но для юридической или общественной оценки их действий вряд ли принципиально важны.

Из протокола допроса свидетеля Густава Боракса о лагере смерти Треблинка и работе команды парикмахеров. Венгрув, 3 октября 1944 г.:
"Многие женщины садились на лавки парикмахерской, держа на руках грудных детей. Были случаи, когда женщины в тот момент, когда их стригли, кормили младенцев грудью. Дети страшно кричали. Детский плач, крики, рыдания матерей наполняли парикмахерскую. Много женщин было беременных. У некоторых женщин были кровотечения, т. к. после них на скамейке оставалась кровь. Обстановка была ужасная. Некоторые женщины и девушки сходили с ума, такие случаи были часты. Мне запомнился такой случай, когда красивая восемнадцатилетняя девушка из Гродно, увидев страшную обстановку парикмахерской, сразу сошла с ума. Много было случаев, когда сошедшие с ума женщины начинали петь, раздирали себе лицо до крови, рвали на себе волосы и набрасывались на немцев. Матери заживо оплакивали дочерей и внучек. Разыгрывались такие страшные сцены, что трудно было выдержать. Парикмахер Босак, прибывший из Ченстохова, после первых дней работы по стрижке волос у женщин принял яд и умер. (…) Из числа женщин, проходящих через парикмахерскую, немцы отбирали наиболее красивых и молодых, которых увозили и использовали для удовлетворения половых потребностей. Я помню, как однажды немцы для этой цели отобрали сразу более 30 женщин. Голых женщин обыскивали. Искали ценности и деньги. Каждой женщине предлагали раздвинуть ноги. Специально выделенный человек проверял, не спрятано ли что-либо в половых органах. Проверяли также во рту и ушах. Этим унизительным осмотром руководил унтершарфюрер Сухомель".

А их руководство интересовала прежде всего эффективность – эффективность в организации уничтожения и поступления материальных средств, оставшихся от убитых. Соответственно, высокопоставленные эсэсовские чины больше беспокоилось о тотальной коррупции – чтобы она не наносила явного ущерба интересам рейха. Сама организация процесса уничтожения в лагерях была призвана как раз защитить немцев от тех моральных страданий, которые те испытывают, убивая невинных во время расстрелов. В 1941 году Гиммлер увидел расстрелы ни в чем не повинных женщин под Минском, был шокирован и решил придумать способ, который бы позволял сократить количество людей, непосредственно убивающих, и облегчить их моральные страдания. В итоге нацистская машина уничтожения строилась как мануфактура: одни пропагандируют, другие планируют, третьи отвозят евреев на места уничтожения, четвертые охраняют, пятые загоняют в газовые камеры и только шестые приводят, как в Треблинке, в действие танковый мотор в камере. Это функциональное разделение ответственности дает простор для самооправдания. Тем более что сам мотор заводили коллаборационисты-"травниковцы". Так что – немного иронизируя над стратегиями самооправдания нацистов – из 800 тысяч жертв Треблинки лишь малая часть технически убивалась немцами. Но мы же понимаем, что это вопрос устройства системы. А специфические представления о собственной добродетельности, помноженные на пропаганду, расчеловечивающую обрекаемых на смерть, смазывают шестеренки этой машины смерти. Эсэсовское начальство убеждало исполнителей в том, что те выполняют чрезвычайно значимую государственную задачу, волю фюрера! И тот же Кристиан Вирт, инспектор лагерей уничтожения, когда в августе 1942 года восстанавливал работу Треблинки, не только еврея, но и эсэсовца мог избить. Эту дисциплину сплошного подчинения никто не отменял.
Самуэль Вилленберг – польский еврей, переживший Холокост. Художник, скульптор и писатель. Работал в зондеркомманде в Треблинке, участвовал в восстании в лагере. Бежал, был участником Варшавского восстания. Эмигрировал в Израиль. Лауреат всех высших орденов Польши. Мемуары "Выживший в Треблинке" были опубликованы с 1986 по 1991 год на иврите, польском и английском языках. К моменту смерти в 2016 году Вилленберг был последним оставшимся в живых участником Треблинского восстания.

Из воспоминаний Самуэля Вилленберга "Выживший в Треблинке":
"Платформа опустела; только у входа в барак осталась маленькая девочка, возраст которой было трудно определить. Ее платье, превратившееся в лохмотья, покрывало тонкое и худое тельце; на голове повязан цветной платок, бахрому которого она закусила белыми зубами; большие черные глаза, как у лани, смотрели с испугом; тонкие худые ноги, красные от мороза, были обуты в красные блестящие туфли на высоких каблуках и контрастировали с другими предметами ее жалкой одежды. Наверное, она получила их от жалостливой женщины из гетто или нашла в квартире, освободившейся от жильцов. В ее руках был ломоть хлеба, который она ела кусочками и прижимала к груди, словно боялась, что кто-то его отнимет. … Она со страхом смотрела на платформу и на вагоны, которые покидали ее. Из ворот в заборе, обнесенном колючей проволокой, показался эсэсовец Мите, на его кривых ногах были высокие сапоги. Его называли в лагере "Ангелом смерти". По-кошачьи подкрался к ней, новой жертве, которую готовился уничтожить. На его лице, украшенном светлыми выцветшими усами, играла удовлетворенная улыбка. Приблизившись к ней, он слегка подтолкнул ее, почти не касаясь, словно не хотел запачкать руки — руки убийцы. Он толкал ее, словно ребенок, играющий в большой мяч или жезлом, чтобы тот катился самостоятельно. "Ангел смерти" толкал ее к воротам, находившимся между двумя бараками рядом с платформой, через площадку для сортировки, в конце которой был невинный забор, переплетенный сосновыми ветками, скрывавший "лазарет". Сортировочная площадка была заполнена горами цветной одежды. Девочка, подталкиваемая "Ангелом смерти", шла по двору, высокие каблуки красных туфелек утопали в песке. Она приблизилась к узникам, рассортировывавшим вещи, переходила от одного к другому и глядела на содержимое чемоданов, словно была на ярмарке или на улице, где разносчики продавали свой мелкий товар. Она бродила среди нас с легкой улыбкой на лице и испуганными глазами. Она вытащила из чемодана платки и подбросила их танцевальным движением. Мы прекратили работу и смотрели странное зрелище колоритной варшавской бедности. Она переходила от заключенного к заключенному, от узелка к узелку, от чемодана к чемодану, находя что-то в каждом из них, вынимала, бросала и шла дальше. Она остановилась около одного чемодана и вытащила из него очки из кучи очков, которые принадлежали старикам, слепым и детям — их хозяева уже были уничтожены в газовых камерах. Неожиданно на ее худеньком лице отразился страх, страх, который полностью овладел ею и прогнал все наваждение, словно она снова стала нормальным человеком; в ее руках были маленькие детские очки, она посмотрела на них с отвращением и бросила в песок. В глазах был виден ужас, она взглянула на нас, на форарбайтеров с кнутами и на эсэсовцев, находившихся на этом красочном поле. Это были глаза человека, полные страха, интуитивно чувствующего приближающийся конец. Она стала отступать, отдаляться от этой огромной пестрой горы. Страх в глазах нарастал. Мите подталкивал ее в направлении ворот, ведущих за забор, в "лазарет", над которым реял белый флаг с красным крестом. Мы все смолкли, никто не мог вымолвить ни слова, не было слышно человеческого голоса, форарбайтеры стояли с понурыми головами и опущенными вниз кнутами. Заключенные остановили работу. Мы все смотрели на девочку-варшавянку, толкаемую в лазарет "Ангелом смерти" эсэсовцем Мите. Она исчезла за забором — живая. Спустя считаные минуты мы услышали выстрел. На площадке воцарилась мертвая тишина. У входа за забор показался Мите. Вкладывая пистолет в черную кобуру, он стряхнул невидимый пепел с рук. В этот момент, словно по команде, все капо и форарбайтеры начали криками подгонять узников. Со всех сторон слышались крики: "Arbeiten, сукины дети, Schnell! Schnell!". Их кнуты взлетели над головами заключенных. Мы знали, что их крики не направлены против нас. Это была единственная форма протеста против представления, увиденного нами, и последней почестью маленькой девочке из Варшавы".

- И однако, памятуя о знаменитом рациональном хладнокровии, деловой расчетливости и некоторой брезгливости наци, почему конвейерное уничтожение не ограничивалось именно безличным уничтожением? Для чего эти дикие практики издевательств, физического унижения? В конце концов, даже в системе представлений нацистов, "орднунг", подобное должно бы квалифицироваться как развращение личного состава?
- Повторю, издевательства не вменялись в обязанность, но стали способом обеспечения порядка. Перед вами очень сложная технически задача: вы должны ежемесячно убивать десятки тысяч людей, по несколько тысяч человек в день. Это огромное количество людей, а у вас несколько десятков эсэсовцев и около сотни "травниковцев", пусть и с оружием. Потому депортируемых надо превратить в податливую толпу. Соответственно, вы используете комбинацию ложной надежды ("Мы вас выселяем на Украину") и террора. Чем ближе к камерам, тем меньше ложной надежды и больше террора. Главное – спешка, чтобы люди не успевали оглянуться, разбежаться, оказать сопротивление. До лагеря смерти люди ехали по несколько дней в переполненных вагонах, где не присесть, без еды и воды. По прибытии их выгоняли криками и ударами, но поддерживалась иллюзия, что они приехали на обычную станцию временного лагеря. И чем ближе к газовым камерам – тем больше били. И при этом – да, кто-то мог просто бить палкой, а кто-то – отрезать уши и половые органы, в зависимости от удовлетворения собственных садистских потребностей. Но сам террор являлся процедурой обеспечения порядка и подчинения.

- Об этом докладывали "наверх"? Скажем, о вопиющих проявлениях садизма у Франца?
- Ни для кого, включая начальство, не было секретом, что он феноменально жесток, но это не воспринималось как нечто неправильное, скорее наоборот. Во-первых, к убиваемым евреям не относились как к людям. Евреи – не люди для нацистов. Для того, кто работает на скотобойне, нет проблемы в том, что свинья визжит, когда ее убивают. Потому нет слез у нацистов относительно убиваемых евреев или жителей сожженных деревень Беларуси или России. И Франц рассматривался в первую очередь как исполнитель, причем более высокого уровня – как руководитель, на котором держалась Треблинка. А то, что он мог себе позволить – и позволял – нечто большее, ну так "перебдеть" - не "недобдеть"…
Из воспоминаний Самуэля Вилленберга "Выживший в Треблинке":
"Холодный барак был наполнен обнаженными женщинами, которые стояли без движения и в ужасе, и только страх был виден в их глазах. Неожиданно от земли стал подниматься туман и, словно таинственная аура, покрыл обнаженных женщин; одежды, которые они сняли, еще хранили тепло тел, и это тепло вызвало пар в холодном бараке. Женщины сели на стулья, иногда с детьми, и смотрели на нас со страхом, а мы, узники, начали срезать волосы — черные, каштановые или совсем белые. В ту минуту, когда наши ножницы коснулись их голов и волос, в глазах женщин мерцал лучик надежды. Мы знали, что они думают, что стрижка — это этап перед дезинфекцией, а если будет дезинфекция, значит, они останутся жить. Они не знали, что их волосы немцы используют для набивки матрасов для экипажей подводных лодок, поскольку волосы отталкивают влагу. После стрижки эсэсовец открывал дверь, и женщины уходили по Дороге Смерти, дороге без возврата, в газовые камеры. В тот день через меня прошли сотни женщин. Среди них была молодая красивая девушка двадцати лет, с которой мы были знакомы лишь считаные минуты, но долгие годы я не мог ее забыть. Ее звали Рут Дорфман, она, по ее словам, успела сдать выпускные экзамены на аттестат зрелости. Она понимала, что ее ждет, и не скрывала этого от меня. В ее глазах я не видел страха и печали, только боль и безграничное горе. Рут спросила, сколько времени она будет мучиться. Я ответил, что считаные минуты. Как тяжело было ей на сердце, и в ее глазах стояли слезы смирения. Между нами прошел эсэсовец Франц Сухомель, прервавший нашу беседу, и я продолжал срезать ее длинные и нежные как шелк волосы. Когда я закончил, она встала со стула и посмотрела на меня длинным последним взглядом, словно передавала прощальный привет этому жестокому и беспощадному миру, и медленно-медленно стала отдаляться по своей последней дороге. Спустя несколько минут я услышал шум мотора, вырабатывавшего угарный газ, и я представил себе Рут среди множества обнаженных тел без признаков жизни".

- В книге есть важная пометка: сведения, которые предоставляли очевидцы восстания в Треблинке, иногда не в полной мере отвечают действительности по понятным причинам (среди которых и неосознанное или сознательное "укрупнение" своей роли в событии). Как в этом смысле относиться к воспоминаниям Верника и Вилленберга? Как верифицировать? Насколько доверять? Как можно быть уверенным, что приводимые ими подробности они действительно видели своими глазами?
- К этим мемуарам, даже при их статусе, нужно относиться точно так же, как к показаниям любых других узников. Вообще историческое исследование не является пересказом документов ни в коей мере. "Этот факт почерпнут в официальном документе, а потому является правдой" - фраза исключительно шарлатанов или тех, кто считает свою аудиторию дураками. Историк анализирует не отдельные документы или свидетельства, а комплекс источников, с учетом его происхождения, внутренней связности, историографической традиции. В идеале исследователь еще рефлексирует методы анализа, отдавая себе отчет в том, что он может узнать, а что – нет. Если вы встречаете документ, некий протокол, в котором написано, что в Аушвице убито более 4 млн узников, его нельзя просто взять и использовать в качестве "официального документа". Это антинаучно по определению. "Официальный" - это статус конкретного документа, это не делает его содержание более достоверным по сравнению с другими. Если возвращаться к сборнику, то я бы предложил в качестве примера нашу вводную статью, а именно параграф про восстание 2 августа 1943 г. Его писал Михаил Эдельштейн, и на мой взгляд, он сумел виртуозно сопоставить различные источники, ставя в центр вопрос, а что мы вообще можем знать об этом событии.
- Были ли какие-то стереотипы о Треблинке (как ваши личные, так и некие общие, коллективные), которые вам удалось опровергнуть благодаря работе над сборником?
- Я не говорил бы именно о стереотипах, потому что история лагеря уничтожения более-менее известна. Я сказал бы, что удалось прояснить многие тонкости: особенности функционирования лагеря в первые месяцы его создания, тонкости взаимодействия между Треблинкой-1 и Треблинкой-2, какие-то частные случаи и мифы. Например, благодаря документам, связанным с тем же Сухомелем, который всегда подавался как такой "хороший немец", стало ясно, что все было наоборот. Удалось прояснить, хотя это и не является, на первый взгляд, принципиальным открытием, тонкости, связанные с динамикой контроля и внутреннего сопротивления. Само функционирование этой системы выглядит более выпукло и детализировано. Равным образом на первый план вышли трагедии – частные трагедии, но это не менее важно. Очень важны и детали связи Треблинки с окружающим ее внешним миром – это дает понимание контекста ее существования. Показания Гольдфарба важны с точки зрения дискуссий о количестве газовых камер. Хотя еще ранее их в своих работах цитировал Сергей Романов.

Из протокола допроса Абрама Гольдфарба, работавшего в команде по переноске трупов из газовых камер Треблинки. Деревня Косув-Ляцки, 21 сентября 1944 г.:
"У мотора работало два вахмана. Первый из них Иван, которого в лагере назвали "Иваном Грозным". Это выше среднего роста мужчина, брюнет, лет 27– 28. Имя Грозный, которым он был окрещен, досталось ему не случайно. Своей жестокостью он, пожалуй, превзошел многих немцев. Помню один такой случай: я работал тогда по переноске трупов. Иван подозвал к себе одного еврея из нашей группы и на глазах у всех саблей отрезал ему ухо и в виде насмешки вручил отрезанное ухо этому еврею. Через час этот еврей им же был застрелен. Помню и другой эпизод: одного из наших работников он убил ударом металлического прута по голове. Когда я был занят переноской трупов из камер к яме, предстала страшная картина изувеченных людей. Кроме того, что люди отравлялись в этих камерах газами, у многих из них оказались отрезанными уши, носы, другие органы и телеса, у женщин — груди. Так утонченный способ отравления газами дополнялся физическими предсмертными мучениями из-за наносимого им членовредительства. (…) Как я уже показывал, мои функции сводились к тому, чтобы перевозить трупы из "бань"-душегубок в ямы. Переноской и перевозкой трупов было занято 200–300 человек евреев-заключенных лагеря. Часть из нас была занята выносом трупов из камер на рампы. Другие на носилках переносили трупы в поле и складывали их в ямах. Количество умерщвленных в лагерях людей мне трудно определить. Ежедневно умерщвлению подвергалось в среднем по 5 тысяч людей. Были дни, когда прибывали транспорта в одну тысячу людей, были дни, когда их число выходило до 10 и 15 тысяч. Кроме ограниченного количества людей, оставляемых временно для выполнения черновой работы, все остальные в день их прибытия в лагерь умерщвлялись".

- Второй момент, прояснившийся при работе над сборником (здесь я согласен с мнением, высказанным Михаилом Эдельштейном), - на основе новых источников вся история "Операции «Рейнхард", по сути, должна быть переписана. Необходимо новое обобщающее исследование, с учетом всей совокупности введенных в научный оборот источников.
И третий момент, который открывает сборник: то, каким образом работала советская сторона по расследованию преступлений. Не только процедуры и прагматика, но и разница во взглядах, которые имели место, например, между ЧГК (Чрезвычайной государственной комиссией по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков) и военными (прокуратурой и политическими органами). Последние как раз-таки выступали за то, чтобы история Треблинки получила публичное освещение, в отличие от руководства ЧГК. И это добавляет новые штрихи к пониманию того, как работала идеологическая машина СССР.
- Для человека, который с системным описанием этого кошмара столкнется, возможно, впервые, шок, соответственно, может быть сильнейшим. Умения воспринимать такой материал нет, соизмерить свои силы заранее невозможно. При этом ваша (а теперь и наша) задача – чтобы книгу прочло как можно больше людей. Можете ли вы предположить какую-то "технику безопасности" для таких потенциальных читателей? Как-то предостеречь их и помочь справиться с таким материалом?
- Пожалуй, рекомендовал бы начинать читать эту книгу с воспоминаний Вилленберга, потому что там фокус смещен с фиксации преступлений на описание практик сопротивления. Эти воспоминания помогают понять, что Треблинка – это не только Курт Франц и его собачка Барри, не только всевозможные издевательства, но и особый мир взаимопомощи узников, которые, выживая, старались остаться людьми. Большинство публикуемых протоколов записаны со слов выживших, которым важно было описать ужасы Треблинки, зафиксировать свидетельства для того, чтобы затем привлечь нацистов к ответственности. Вероятно, многое они не говорили, вероятно, что-то из сказанного оставалось за пределами интересов следствия, а потому не попало в протоколы. В конечном счете здесь нет разницы между "поиском правды" и "обвинением". То же самое характерно и для многих послевоенных свидетельств, особенно произнесенных на суде. Специфика более поздних воспоминаний – смещение фокуса зрения на аспекты, которые первоначально не были заметны. А потому мемуары Вилленберга или того же Глацара* (публиковались на русском языке ранее) - это не просто рассказ о злоключениях, издевательствах и истязаниях. Это описание и пространства лагерной жизни, жизни чрезвычайной, но где пробивается нормальность. Нормальность обретает себя в дружбе и спорах, шутках и песнях, дискуссиях и ссорах, взаимовыручке и помощи, в коррупции и подпольной борьбе. Даже приводимая Вилленбергом история про мастурбирующего парня – это тоже про сохранение "нормальности". Даже в Треблинке нормальность и человечность в конечном счете не были уничтожены. И это не может не радовать.
Но, конечно, это книга делалась не для успокоения читателя. Это научное издание, а потому его задача – понять прошлое. Но при этом очень хотелось, чтобы книга вызвала не только рефлексию и ужас, но и сочувствие и сострадание. Книга потенциально может дать пищу для дальнейших размышлений по многих проблемам: человек и система; вина и ответственность; чрезвычайность и нормальность. Безусловно, если свести это к неким лозунгам, смысл нашей работы пропадает. А умение сострадать другому – важный социальный навык, которого не хватает в современной России.
(*Ричард Глацар – чешский еврей, узник Треблинки, один из выживших участников восстания в августе 1943 года, автор автобиографической книги "Ад за зеленой изгородью")

Из показаний Макса Левита о жизни в трудовом лагере Треблинка и о его ликвидации [август 1944 г.]:
"На работы в "рабочем лагере" привлекались также и ребята 12–14-летнего возраста. Помню, как в марте 1942 года привезли из Варшавы 60 ребят вышеуказанного возраста. Унтерштурмфюрер Фриц Прейфи по кличке "Старый" отобрал 15 наиболее слабых, худеньких ребят и тут же приказал уничтожить их как непригодных к труду. Немец, живший ранее в Одессе, по фамилии Свидерский (по кличке "Одноглазый"), он был слеп на один глаз, вместе с другими вахманами взяли молотки и ударами по переносицам и по голове убили на наших глазах всех 15 ребят. Мы слышали душераздирающие крики некоторых ребят, а в целом дети умирали спокойно, потому что они, видимо, уже давно поняли, что их ждет смерть. Дети только просили, чтобы их расстреливали, а вахманы, главным образом украинцы, ответили: "Ох вы какие. Расстрел — это слишком хорошая смерть для жиденят. Нет, мы вас прикончим молотками". В дальнейшем отобранные Фрицем Прейфи ребята работали на кухне, чистили картошку, разбрасывали пепел от печей, где жгли людей, пасли коров и так далее. Двух ребят по имени Мойше и Полютек, пытавшихся бежать, немцы повесили на глазах у остальных ребят. Вешали унтерштурмфюреры Ланц, Гаген, Линдеке, Штумпе (Смеющаяся смерть) и начальник лагеря фон Эйпен. У Мойши веревка оказалась очень длинной, и мальчик доставал ногой до земли. Ланц, столярный мастер, старший в мастерской, подошел, отвязал веревку от виселицы, свалил мальчика на землю, наступил ногой на голову и дернул за веревку. Их товарищи, глядя на эту сцену, плакали и говорили: "Мойше и Полютеку хорошо, теперь они ведь больше не будут жить". Таким образом, виселицами и розгами было истреблено еще около 15 ребят. 30 оставшихся в живых были расстреляны немцами в момент ликвидации лагеря, когда Красная Армия уже приближалась к району Коссува. Все 30 мальчиков во главе с их вожаком Лейбом шли к могиле строем и пели советские песни "Широка страна моя родная", "Москва моя", "Интернационал" и кричали: "Да здравствует Сталин". Это были дети рабочих Варшавы, Гродно, Белостока, Бреста и т. д. За день перед расстрелом ребята сами себе рыли могилу".

- В равной степени – на собственном примере – могу предположить и сильнейшее чувство безысходности, в конце концов охватывающее читателя. Примеры сопротивления воодушевляют, но числа несопоставимы, сила – за палачами и равнодушными созерцателями. Что можно противопоставить этому гнетущему знанию, чтобы оно не захватило и не подавило?
- Мне кажется, люди, читающие такие книги, владеют достаточно большим багажом знаний, а потому не строят картину мира по одной лишь книге. Да, описания страданий узников могут вызвать чувство безысходности. Но ведь в конечном счете было восстание, которое позволило многим бежать. И одновременно история нацистских преступлений наталкивает на мысль о значимости подвига Красной Армии. Да, датский король, нашивший желтую звезду в знак протеста, герой. Те, кто сохранял себя в условиях концлагеря, тоже герои. Но чтобы сломить нацистскую машину уничтожения нужны были те, кто мог бы с оружием в руках противостоять ей. А для этого надо было переломить хребет вермахту. А кто это сделал? Союзники, и ключевая роль принадлежит Красной армии.
Тут, повторюсь, вопрос в акцентах. Если мы сосредоточиваемся на Треблинке, то получаем безысходность. Если мы сосредоточиваемся на практиках внутреннего сопротивления, есть соблазн сказать, что только внутреннее сопротивление может позволить спастись. Но оно может спасти, если вы оказались внутри системы. А сама система рушится благодаря коллективному действию – об этом нельзя забывать.

Меня волнует сейчас другая тема. Я вчера занимался со студентами-магистрантами одного из московских университетов, мы начали обсуждать нацистские преступления, и здесь я столкнулся с несколько иным восприятием. Знаете известный эксперимент Милгрэма (*исследование механизма подчинения – прим.ред), в ходе которого били током? Там суть в том, что, если есть ученый-авторитет, который приказывает вам пропускать ток через тело человека, вы готовы это делать, даже причиняя страдания. Естественно, в ходе эксперимента никакого тока не было, специальные актеры изображали боль, но испытуемые этого не знали. Так вот. Некоторые студенты этот эксперимент восприняли так: в каждом из нас и так заложено зло, и, соответственно, что ж мы хотим от нацистов? Потому любой немец, тот же Сухомель в Треблинке, в принципе не виноват, поскольку был к этому вынужден. У него не было выбора, и мы должны встать на его точку зрения и проявить к нему… эмпатию! Я был совершенно ошарашен этой дискуссией, учитывая, что для меня самого эмпатия является центральным ценностным понятием. Тогда я задал вопрос, который их, как мне кажется, несколько сбил с толку: а почему вы проявляете эмпатию к "простому немцу", а не к его жертве? И здесь уже другая проблема. Размышляя о подчиненности системе, легче ассоциировать себя с убийцей, а не жертвой. Размышляя о том же Сухомеле, его попытках прикрыться добродетелью, мы очеловечиваем его, в то время как 800 тысяч узников Треблинки остаются лишь "цифрой" просто потому, что о них ничего не известно. Именно поэтому подробный разговор о нацистах может иметь непредсказуемые последствия, если не сопровождается таким же обстоятельным разговором о жертвах или тех, кто победил нацизм.
Янкель Верник – польский еврей, переживший Холокост. В Треблинке в том числе работал в зондеркомманде. Принимал активное участие в восстании в Треблинке, в ходе которого бежал и присоединился к движению сопротивления. В 1944 году опубликовал мемуары "Год в Треблинке", ставшие одним из ключевых мемуарных свидетельств Холокоста. Был свидетелем на суде над Людвигом Фишером, Адольфом Эйхманом и на Треблинском процессе.

Из воспоминаний Янкеля Верника:
"Дорогой читатель! Только для тебя продолжаю свою ничтожную жизнь: для меня она потеряла всякую ценность. Могу ли я свободно дышать и радоваться всему, что создала природа? Ночью часто просыпаюсь с ужасным стоном, кошмарные видения прерывают столь желанный сон, вижу тысячи скелетов, протягивающих ко мне руки с мольбой о жизни и помиловании. А я, обливаясь потом, чувствую себя беспомощным. В этот момент вскакиваю, протираю глаза и радуюсь, что это всего лишь сон. Моя жизнь отравлена. Образы смерти проходят передо мной. Дети, дети, и еще раз дети. Я пожертвовал всеми, кто мне был дорог и близок. Я сам провожал их на казнь. Я строил для них камеры смерти. Сегодня я беспризорный, старый человек, лишенный крова, семьи и близких. Сам с собой говорю, сам себе и отвечаю. Я скиталец. Со страхом я захожу туда, где живут люди. Мне кажется, что все переживания отражены на моем лице. Когда я смотрю на отражение в воде, то удивление и страх искажают мое лицо. Разве я похож на человека? Нет. Сто раз нет. Заросший, замученный, сломленный. На меня давит груз столетий. Мне тяжело, ох как тяжело, но все-таки я должен продолжать. Я хочу, и я должен. Я, видевший гибель трех поколений, должен жить во имя будущего. Весь мир должен знать о преступлениях этих варваров. Они навеки должны быть осуждены целыми поколениями. Именно я должен помочь этому случиться. Даже самое смелое воображение не может представить того, что я видел и пережил. Ни одно перо не в состоянии это описать. Я хочу все передать, как оно и было на самом деле. Пусть люди и весь мир узнают, что такое "западная культура". Я страдал, провожая миллионы на смерть. Пусть узнают миллионы. Для этого я живу. Это моя единственная цель. В одиночестве и тишине я все обдумываю и правдиво описываю. Одиночество и тишина — мои верные друзья. Только щебет птиц сопровождает мои мысли и работу. О дорогие птички, вы меня еще любите, иначе вы не чирикали бы так весело и не приближались бы ко мне. Люблю я вас, как люблю каждое Божье создание. Может, вы меня исцелите. Может, я еще смогу когда-нибудь смеяться. Может, это наступит с завершением моей работы, и тогда с ног моих спадут оковы".